Габитус для начинающих
О лекциях Пьера Бурдьё по экономической антропологии
В прошлом году на русском вышел курс лекций Пьера Бурдьё по экономической антропологии. Он может стать хорошим началом для знакомства с наследием великого социолога: в лекциях Бурдьё не только объясняет логику возникновения своих ключевых понятий (габитус, поле, символический капитал и др.), но и обращается к своим философским предшественникам, среди которых особое место занимает Лейбниц. По просьбе «Горького» об этой книге рассказывает Николай Проценко.
 Пьер Бурдьё. Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992—1993). М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. Пер. с фр. Д. Кралечкина
Пьер Бурдьё. Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992—1993). М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. Пер. с фр. Д. Кралечкина
Экономика как лернейская гидра
Проблема отправной точки хорошо знакома многим из тех, кто давно читает Бурдьё на русском. Из написанных им за более чем сорокалетнюю карьеру десятков книг и статей, не считая лекционных курсов, в России выходило далеко не все, а то, что опубликовано, читателю необходимо свести в какое-то подобие системы. Вроде бы мысль Бурдьё почти всегда вращается вокруг ограниченного набора идей, но ощущение фрагментарности остается — слишком уж широк круг тем, которые затрагивает его социология. В лекциях по экономической антропологии в Коллеж де Франс Бурдьё реконструирует ее базовые принципы и перебрасывает мостки к другим своим работам, как опубликованным в России («Практический смысл»), так и к тем, что еще ждут своего часа (прежде всего это «Различение: социальная критика суждения»).
Из переведенных на русский экономических работ Бурдьё ключевой до недавнего времени оставалась статья «Поле экономики» — поздний текст, вышедший в 1997 году и во многом основанный на курсе, прочитанном в Коллеж де Франс в 1992–1993 годах. Сам же этот курс представляет собой логическое продолжение лекций о государстве, которые Бурдьё читал с 1989-го по 1992 год (они также вышли в издательстве «Дело»). А этому курсу предшествовали лекции по общей социологии 1982–1986 годов (пока не изданные в России). Таким образом, курс из девяти лекций 1992–1993 годов, названный Бурдьё «Социальные основания экономического действия», завершает некий трехчастный цикл, совпадающий с классическим разделением сфер общественной жизни на социальную, политическую и экономическую.
Главной задачей курса Бурдьё называет выявление «непротиворечивых оснований экономического поведения», хотя сразу отказывается от лобовой критики экономики как самостоятельной дисциплины. Вообще любая дисциплина, говорит Бурдьё, напоминает лернейскую гидру, и покушение оказывается тщетным и в то же время глуповатым. Сравнение, конечно, не случайное. Бурдьё регулярно сравнивал свою социологию с силовыми видами спорта и сам всегда не против был побороться, но с экономикой он обошелся тоньше, чтобы показать: это не данность, экономика исторически сконструирована, как и основные экономические институты, рынок, кредит и прочие. Подобная деконструкция — не редкость для мысли ХХ века, и Бурдьё, становясь на этот путь, не только предлагает критику экономики и homo economicus как ее главного героя, но и приходит к истокам собственной теории.
Алхимия дара
Первой знаковой фигурой в этом движении для Бурдьё оказывается Марсель Мосс, автор классического антропологического труда «Очерк о даре». Обращение к моссовской интерпретации дара связано прежде всего с тем, что Бурдьё ищет для экономики основания, лежащие вне теории рационального действия: «Я буду отстаивать иную антропологию, основанную на той мысли, что для объяснения тех видов поведения, что воспринимаются в качестве рациональных, нет необходимости выдвигать гипотезу, будто их основанием выступает разум или сознательно рациональное намерение».
Именно безвозмездный, произвольный и ничем не оправданный дар, а отнюдь не «универсальный» homo economicus и является по Бурдьё «фундаментальным вызовом социологии». В случае с даром социология как наука, ориентированная на объяснение, сталкивается с действием, не имеющим никакой причины и оправдания, помимо желания сделать широкий жест. Поэтому, полагает Бурдьё, объяснить дар — значит объяснить жизненный опыт дара как чего-то безвозмездного, дара без возврата, и одновременно предполагающего ответный дар, отложенный во времени. Таким образом, именно дар становится базовой и при этом темпоральной структурой обмена.
В этой отсрочке Бурдьё и усматривает важное отличие от абстрактного homo economicus, мгновенно принимающего решения, исходя из конъюнктуры рынка. Фундаментальной ошибкой, которая обнаруживается за этим сконструированным экономистами существом, Бурдьё называет то, что «в агентов вкладывают мысли ученых», или, как говорил Маркс о Гегеле, выдают «дела логики за логику дела», а стало быть, homo economicus на поверку оказывается homo academicus. Между тем «ответный дар должен быть отсроченным и иным. Он должен быть принесен намного позже, как можно позже… Это отличие (в котором заметны некоторые коннотации Деррида), факт отсрочки, откладывания — вот что позволяет жить».
Капитал — габитус — поле
Дар в конечном итоге является «местом, в котором заметнее всего алхимия символического, то есть социальная работа <…> благодаря которой экономическое превращают в символическое, обмен материальными, исчислимыми благами превращают в нечто не сводимое к рыночной стоимости предмета обмена». Так Бурдьё уже во второй лекции вводит одну из своих главных тем — взаимное превращение разных видов капитала, среди которых собственно экономический капитал оказывается далеко не самым главным, а ключевое значение приобретает скорее символический капитал, который можно легко обменять на другие его типы. Теория же экономики символических благ как экономического порядка со своей особой логикой предполагает и иную философию агента и действия. Осмысление действия в категориях сознания и намерения, заявляет Бурдьё, надо заменить на осмысление в категориях предрасположенности и габитуса — «коллективного индивидуального», устойчивых, постоянных и относительно систематических предрасположенностей агента в отношении социального мира. Универсальной дефиниции этого ключевого для своей социологии термина Бурдьё не дает: конкретным содержанием он наполняется в зависимости от контекста, но самое главное заключается в том, что это понятие «позволяет обойтись без оппозиции индивида и общества, которая является одной из наиболее вредных оппозиций в социологии».
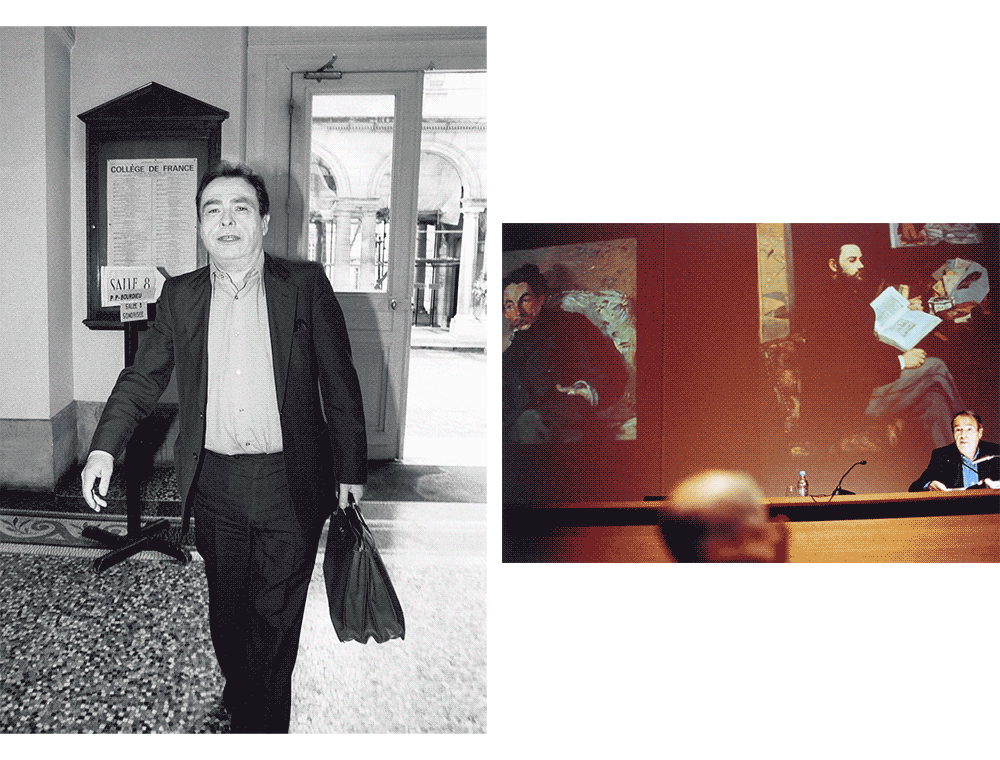
Пьер Бурдьё в Коллеж де Франс
Фото: humanite.fr/Rainer Ganahl
Аналогичным образом Бурдьё обосновывает и отказ от ключевого для экономической науки понятия рынка, которое, как он показывает в шестой и седьмой лекциях, экономисты еще и не в состоянии толком определить. Вместо рынка как механизма производства цен, на которые затем ориентируется homo economicus в своих мгновенных реакциях, он вводит еще одно ключевое понятие — поле, работающее в качестве места конкуренции за обмен и управляемое распределением капитала во всех его формах. Такое определение поля у Бурдьё совершенно универсально и не ограничено одной экономикой: «Поле — это поле сил и поле борьбы за трансформацию поля сил, в котором каждый из агентов применяет на практике ту силу, которой он в данном силовом отношении обладает… Это может показаться несколько абстрактным, но очень близко к реальности и применимо ко всем полям — литературному, художественному, религиозному или политическому. Экономическое поле — это частный случай». Есть и более короткое определение: поле — это невидимая структура, которая определяет правила игры.
Тем самым Бурдьё, уже выразивший признательность Дюркгейму, отчетливо вводит в свою социологию и мотивы противоположной традиции, традиции конфликта, идущей от Макса Вебера. Именно в этой логике рынок, понимаемый как статическое отношение между потребителем и ценой, Бурдьё заменяет динамическими отношениями между производителями — их конкуренцией за доступ к обмену. Последняя установка у Бурдьё также распространяется на все типы производства в широком смысле — производство политического, художественного, религиозного и т. д. Такой подход также восходит к Веберу, который сумел перенести свою теорию рынка в такую, казалось бы, далекую от экономики сферу, как религия, и в итоге выстроил пространство производителей как объяснительный принцип религиозного продукта.
Однако здесь же Бурдьё фиксирует и ряд важных расхождений с Вебером, отказываясь, в частности, от его понимания конкуренции как всего лишь борьбы производителей за клиента. Вебер остается здесь классическим либералом и «фундаментально наивным» теоретиком формальной рациональности, тогда как для Бурдьё рынок в конечном итоге оказывается «социальным артефактом, созданным в значительной мере государством для конкуренции между производителями». И эта конструкция не имеет ничего общего с тем, о чем говорит неолиберальная теория, считающая рынок порождением «естественного движения конкуренции». Поле производства, резюмирует Бурдьё, всегда еще является и полем борьбы за власть над полем, часто принимающей форму борьбы за государственную власть.
Докапиталистическое бессознательное
Рассуждения о даре наполнены для самого Бурдьё живым, практическим смыслом. В лекциях он постоянно вспоминает о самом раннем периоде своей карьеры, когда он занимался полевыми исследованиями в Кабилии, области в Атласских горах на севере Алжира. Кабильские материалы Бурдьё регулярно использует, чтобы показать, как функционируют докапиталистические экономики с их «угнетением духа расчета [то есть расчетливости]». «Если бы феллах (крестьянин) считал, он бы не сеял», — гласит местная поговорка, свидетельствующая о крайней нестабильности: хороший урожай там бывает лишь раз в четыре года. Расчетливость в Кабилии невозможна, и трудиться нужно так, словно успеха можно достигнуть даже тогда, когда условий для этого нет. Собственно, так и работает габитус по Бурдьё.
Бурдьё постоянно напоминает о том, насколько сложно отказаться от мышления в привычных для капиталистического мира категориях, поскольку ментальные структуры, используемые для понимания логики того или иного поля (не только экономического, но и художественного, религиозного и т. д.), сами являются продуктом неких символических революций, радикальных трансформаций. Этот тезис Бурдьё также иллюстрирует случаем из алжирской практики. Он обнаружил, что в Кабилии, давно включенной в экономическое пространство Франции, люди без постоянной работы называли себя безработными, тогда как в южных районах Алжира, на границе с Сахарой, такие же лица называли себя феллахами, крестьянами. Оказалось, что в двух частях Алжира используются совершенно разные определения работы: «Согласно традиционному определению работы, мужчина, достойный этого названия, — это тот, кто встает утром, распределяет работу между сыновьями и братьями (так же как женщина распределяет работу в пределах дома), а потом отправляется вести беседы в собрании других мужчин. На этом его социальная функция выполнена, и он может сказать, что работает». Этот простой пример, говорит Бурдьё, показывает, что труд в привычном для нас смысле — это историческое изобретение.
Несмерть субъекта
Однако тотальный историзм и подрыв теории рационального действия не приводит Бурдьё в объятия привычной постструктуралистской логики: он признает, что сама идея субъективности является социальным продуктом. Но под подозрением у Бурдьё оказывается специфически картезианский субъект — главный антигерой его курса об экономической антропологии: шестая лекция, где автор наконец переходит к основному материалу, начинается с утверждения о том, что неоклассическая экономика является в основе своей картезианской — дедуктивистской, деисторизированной и приписывающей субъекту осознанность действий. Такая рациональность, настаивает Бурдьё, является именно историческим изобретением, а экономическая наука еще и превращает интуиции здравого смысла в ученую мифологию.
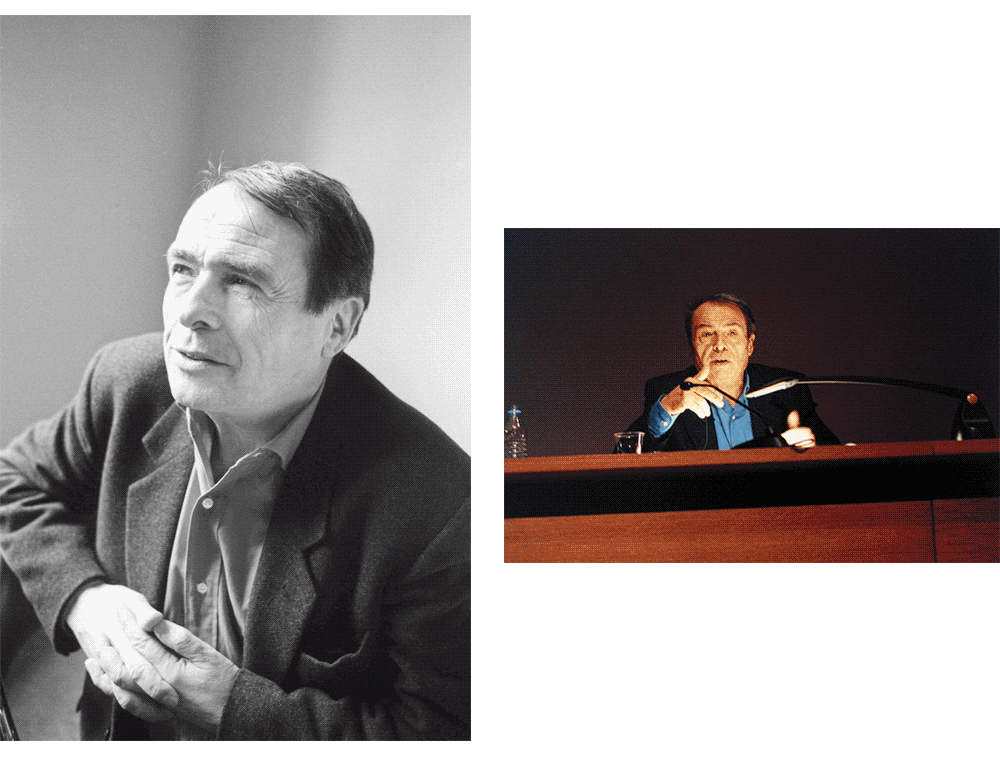
Пьер Бурдьё в Коллеж де Франс
Фото: humanite.fr/Rainer Ganahl
Но Бурдьё находит альтернативу этому типу рациональности у другого великого философа XVII века — Лейбница, который критиковал Декарта за то, что его онтология описывает мир, неспособный длиться, в котором Богу приходится пересоздавать его каждое новое мгновение. Отсюда и сконструированный экономистами мир «без инерции, без истории, без vis insita, без имманентной силы», теория, «которая обрекает себя на некий универсум без impetus [движителя] и на агентов без истории и ничего с точки зрения оснований не объясняет». В мире Лейбница, утверждает Бурдьё, настоящее беременно будущим. И если картезианский мир аналогичен игре в рулетку и каждый новый ход не зависит от предыдущих, то мир Лейбница напоминает игру в покер, где игрок может использовать разные стратегии. Эту разницу Бурдьё поясняет примером уже из сугубо экономической реальности: «Когда крупные промышленники рассказывают о своих решениях, они часто выражают полное презрение в адрес ученых-экономистов. Расчету экономистов они противопоставляют нюх, чувство игры, имеющееся у подлинных знатоков… Обладать чувством экономической игры, чувством инвестиции в строгом смысле этого слова — значит обладать таким чувством, позволяющим предсказывать наиболее вероятные варианты будущего».
В мире Лейбница, полагает Бурдьё, наш разум оказывается социально конституированной спонтанностью, которая и является историей. Габитус же как продукт прошлого опыта и система предпочтений — продукт коллективной и индивидуальной истории, и, как Лейбниц говорил, что нельзя найти два тождественных листа, так же невозможно найти хотя бы две одинаковые личные траектории. Индивидуальность тем самым оказывается спасена, но на Лейбнице Бурдьё не останавливается, неожиданно вспоминая под занавес последней лекции Хайдеггера. Последний, по его мнению, вплотную подошел к понятию габитуса и был одним из авторов теории практической логики, разработанной в противовес рационализму людьми, которые выступали за традицию и неявную передачу того, что передается помимо разума. «В действительности, — резюмирует Бурдьё, — вся моя программа состоит в том, чтобы дать рациональное основание ограниченному разуму… в смысле реалистического разума, антропологически подтвержденного, то есть немного разочаровывающего. Задача в том, чтобы предложить теорию нечеткости, которая сама не была бы нечеткой, теория ограниченного разума, которая не будет ограничена разумом».