Экологическая история мира
О романе Дэниела Мейсона «Северный лес»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дэниел Мейсон. Северный лес. М.: Фантом Пресс, 2024. Перевод с английского Светланы Арестовой
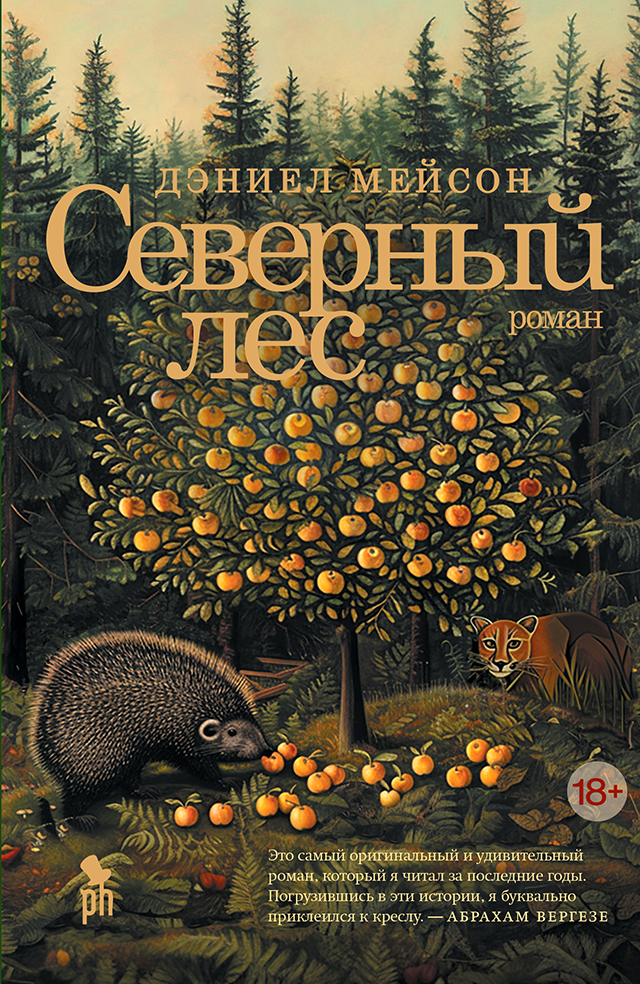 1
1
1970-е были временем бурного роста энвайронментализма, движения по защите окружающей среды. Внимание к экологии отразилось и в художественной литературе: возник жанр экофикшна, в произведениях которого объекты окружающей среды стали выступать заметными акторами. Важно уточнить, что экофикшн появился под сенью научной фантастики. «Что ждет планету в будущем?» — таким вопросом задавались создатели этого жанра. Возможно, оригинальнее всех на него ответила Урсула Ле Гуин в повести «Слово для леса и мира одно» (1972). В будущем, по ее мнению, ничего хорошего не произойдет ни с нашей планетой, ни с любой другой планетой, на которую придет человек: он всегда и везде будет эксплуатировать окружающую среду из-за своего пагубного характера.
«Наши чувства изменяются постепенно и медленно, слишком медленно», — писал Хавьер Мариас. Но не только чувства; наши идеи, наши убеждения тоже меняются слишком медленно, с вечным опозданием. Ле Гуин одной из первых указала на негативный характер антропоцентризма, но только в XXI веке тот факт, что мы живем в антропоцене, а не в голоцене, стал общим местом. Люди осознали себя виновными в пагубном влиянии на окружающую среду слишком поздно. В литературе это, конечно, тоже отразилось. По моим беглым наблюдениям, научно-фантастический характер экофикшна сменился историзмом. Старый вопрос «Что ждет планету в будущем?» уступил место новому: «Как мы довели планету до этого состояния?». Или: «В чем мы провинились?» Ярким примером этих новых тенденций в экофикшне стал роман «Северный лес» (2023) американского писателя Дэниела Мейсона.
Хотя прежде Мейсону не доводилось работать в этом жанре. Его дебютный «Настройщик» (2002) был историческим романом, посвященным странствиям в 1884 году молодого лондонца в Бирму, один из форпостов Британской империи. «Зимний солдат» (2018) — еще одно масштабное историческое полотно — описывает испытания, выпавшие на долю молодого врача из Вены в годы Первой мировой войны. «Журнал моего путешествия по Земле» (2020) представляет собой сборник экспериментальных исторических рассказов с необычной географией. История, а не экология была магистральной темой Мейсона на протяжении 20 лет литературной карьеры. И это удивляет больше всего при знакомстве с «Северным лесом».
2
Дерзость — черта, одинаково присущая как русским, так и американским писателям. Вместить в одну книгу как можно больше событий и персонажей, вступить в игру с реализмом и мистицизмом, отличиться обилием психологизма и метафизики, прибегнуть к разного рода литературным экспериментам и языковым ухищрениям — эти черты мы легко найдем в романах Федора Достоевского и Германа Мелвилла, Василия Гроссмана и Уильяма Гэддиса, Владимира Шарова и Джонатана Франзена. «Северный лес» Мейсона продолжает эту традицию русско-американских литературных амбиций.
О чем этот роман? Об обветшалом доме, затерянном в лесах Массачусетса, за обитателями которого мы, читатели, наблюдаем на протяжении 400 лет: как в этот лес впервые пришли люди, как они построили дом, как вырубили старые деревья и посадили новые, как впервые кого-то убили, полюбили, приревновали, с кем-то переспали, ушли на войну, не вернулись с войны, поверили в Бога, разуверились в Боге — в общем, сложили печальную историю рода человеческого на небольшом участке земли вплоть до наших дней, когда этому лесу и его обитателям, от людей до птиц, от призраков до деревьев, грозит полное уничтожение из-за надвигающейся климатической катастрофы.
Один из многочисленных героев романа, англичанин, прибывший в Америку во время Семилетней войны между Англией и Францией (1756–1763), разбивает яблоневый сад в массачусетском лесу. Свое решение он подытоживает словами:
«Нет уж, никаких английских неженок, никаких европейских пустышек, запачканных грязными лапами французских fruitiers! Мои деревья будут дикими, американскими. Вокруг них я выстрою свою новую жизнь».
Необузданное стремление построить что-то новое — эта американская черта чувствуется и в устройстве романа. Перед нами — сборник независимых историй, которые тем не менее связаны друг с другом: иногда — сквозными персонажами, иногда — символами и вещами, но всегда — местом, тем самым массачусетским лесом.
Лесом, который является единственным достоверным свидетелем американской истории, 400 лет которой мы наблюдаем в романе. На примере судеб представителей разных форм жизни — повторюсь, среди героев встречаются не только люди — Мейсон описывает колониальный период Америки, революцию, Гражданскую войну, Великую депрессию, послевоенную Америку, XXI век.
Для каждой эпохи американской истории Мейсон нашел определенную, соответствующую ей литературную форму: от эпистолярного романа до готической прозы, от кафкианской литературы до тру-крайма. Для Мейсона такое формальное решение соотносится с демократическими ценностями: каждая форма жизни этого леса, как и каждая страница американской истории, заслуживает индивидуального литературного подхода.
Тем не менее принятое автором решение максимально разнообразить роман стилистически, возможно, единственное слабое место в книге. Постмодернистский поворот в литературе не только приучил писателей тасовать, как карты, жанры, стили и формы, но и девальвировал сам литературный инструментарий. На современных курсах литературного мастерства, от Дальнего Востока до Миссисипи, будущие писатели внимательно читают Джона Барта или Венедикта Ерофеева, учатся не просто рассказывать истории, но рассказывать их играючи, с помощью самых разных жанров, стилей и форм. Приемам даже самой авангардной современной литературы с легкостью можно научиться, попав в определенную среду и овладев необходимыми навыками. Литература — высокая, низкая, nobrow — стала как никогда доступной в наши дни. Поэтому я сомневаюсь, что роман Мейсона следует относить к числу новаторских, как это сделали некоторые рецензенты.
Но это не упрек Мейсону. Тот факт, что он научился с такой легкостью владеть разнообразными техниками письма, свидетельствует, что как писатель он достиг очень высокого профессионального уровня. Да, он не новатор в формальном плане, но содержательно он остается очень интересным писателем, который не боится перемен. Если раньше он писал исторические романы о людях, то «Северный лес» — потрясающий пример исторического романа об окружающей среде, который теперь доступен и на русском языке в блестящем переводе Светланы Арестовой.
3
Что же такого интересного в новом романе Мэйсона? Приведу пример из самой книги. В последней главе мы встречаемся с очередной героиней, девушкой по имени Нора, поступившей в постдокторантуру, чтобы изучать давно утраченные леса. Ее внутренний мир балансирует между двумя состояниями: депрессией, отнимающей у нее смысл жизни, и научными изысканиями, связанными с изучением лесов, этот смысл возвращающими. И все вроде бы идет хорошо, пока Нора не получает приглашение стать консультантом выставки в Бостонском музее изобразительных искусств. На этой выставке, посвященной пейзажам давно забытого художника XIX века (к слову, одна из предыдущих глав романа рассказывала именно об этом художнике; такими косвенными связями, подобными переплетению ветвей деревьев, заполнен весь роман), представлены не только его картины, но и инсталляции ряда современных художников. Среди них — иммерсивная инсталляция со шлемом виртуальной реальности, надев который посетитель выставки попадает в цифровую версию одного из пейзажей того самого художника. И вот что происходит дальше:
«Впервые примерив шлем, Нора оказалась в мире, который прежде знала лишь по таблицам. Она много раз видела каштаны на фотографиях, но никогда не стояла под кроной каштана, глядя наверх.
Звук в наушниках был таким громким, что пришлось его убавить. Но именно так звучал когда-то лес, сообщалось в экспликации на стене. Только с 1970 по 2019 год количество птиц в Северной Америке сократилось почти на треть. Раньше лес был оглушителен. В аудиофайле друг на друга были наложены голоса сотен птиц — не только привычных ее слуху, но и вытесненных в дальние леса (вроде пестрогрудого лесного певуна и дрозда Бикнелла) и исчезнувших насовсем (таких как странствующие голуби, чьи мелодии воссоздали по нотным записям).
И вот тогда-то, глядя на лесной полог, ощущая птичьи голоса в самых своих костях, Нора почувствовала, что мир рухнул».
Эта фраза — «раньше лес был оглушителен» — служит триггером не только для Норы (она вновь впадает в депрессию и отправляется за воскрешением смысла жизни в массачусетский лес), но и для читателей: она побуждает нас задаваться вопросами, уже фигурировавшими в этой рецензии: «В чем мы провинились?» Или: «Почему раньше лес был оглушителен, а теперь — нет?» Или: «Почему людей стало больше, а птиц и лесов — меньше?» Именно такие вопросы не позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее, как это делали научные фантасты в 1970–1980-е. Именно такие вопросы вынуждают многих (по крайней мере, писателей) смотреть в прошлое и обращаться к историческим романам.
И если прежде, на рубеже XX-XXI веков, основным инструментом, позволявшим писателям исследовать историю, была человеческая память — личная, семейная, коллективная, — то теперь ее новой проводницей (или одной из новых проводниц) стала окружающая среда. «Новая история мира — это экологическая история» — так вкратце можно сформулировать основную идею «Северного леса» Дэниела Мейсона.