«Экой загогулиной кот лежит нагулянный»
Четыре поэтические книги января
 Герман Лукомников. Хорошо, что я такой / илл. Коли Филиппова. М.: Самокат, 2019
Герман Лукомников. Хорошо, что я такой / илл. Коли Филиппова. М.: Самокат, 2019
Лет 10 назад в интернете проскакивало объявление о том, что Герман Лукомников собирается выпустить четырехтомник своих текстов — и в случае Лукомникова это не казалось гигантоманией. Лучший из российских игровых поэтов долгое время настаивал на тотальности своего проекта: недаром в один из маленьких сборников 2000-х включен раздел «Плохие стихи», а где-то половину сетевого собрания сочинений Лукомникова и Бонифация (псевдоним / alter ego) составляет «Забракованное». Работу с поэзией формальных ограничений (сюда относятся анаграммы, палиндромы и другие схожие жанры) можно уподобить работе скульптора, извлекающего из глыбы мрамора форму, которая уже в ней заложена, или старателя, кропотливо дробящего и просеивающего, как говаривал Маяковский, «тысячи тонн словесной руды» ради единственного самородка. Все палиндромы, все каламбуры уже есть в языке, их нужно только найти — в среде палиндромистов, насколько я понимаю, это общее место. Поэтому потенциально самородный материал невозможно окончательно забраковать.
Зато можно составить коллекцию (выражаясь старинным слогом) перлов — и представить ее в такой форме, что она понравится и знатокам, и неофитам, и взрослым, и детям. Тексты Лукомникова располагают к расплывчатой адресации: скажем, замечательную совместную с Асей Флитман книгу «Мы буковки» вполне можно было бы издавать как детскую, если бы не двустишие «Извините, но / Это же говно!». В новой книге «Хорошо, что я такой» об этой амбивалентности говорит подзаголовок «Почти детские стихи». Ничего «недетского» тут нет, книга честно несет свою маркировку 0+ и, как показывает полевой опыт, пользуется успехом у детей (как и живые выступления Лукомникова; школьники в восторге хохочут, ревнители благочестия потом пишут жалобы в спортлото). Но и взрослые тут найдут чему порадоваться.
Первый же текст книги сообщает:
Во избежанье недоразумений
Предупреждаю, что я гений, —
не поспоришь; штука в том, что уже это двустишие хорошо иллюстрирует лукомниковский метод: его первая строка — конечно, где-то услышанная или прочитанная казенная фраза, к которой удачно пристегивается продолжение. Андрей Черкасов, о котором у нас речь впереди, в своем фейсбуке называет такое «дети, продолжите стихотворение». «Едва заговорив, мы улавливаем рифмы», — продолжает Лукомников. «Мы» тут — щедрое обобщение, но книге Лукомникова вообще свойственна щедрость: вот, погоди, вот еще. Есть подозрение, что тот самый четырехтомник, будь он выпущен, вызывал бы перегрев мозга.
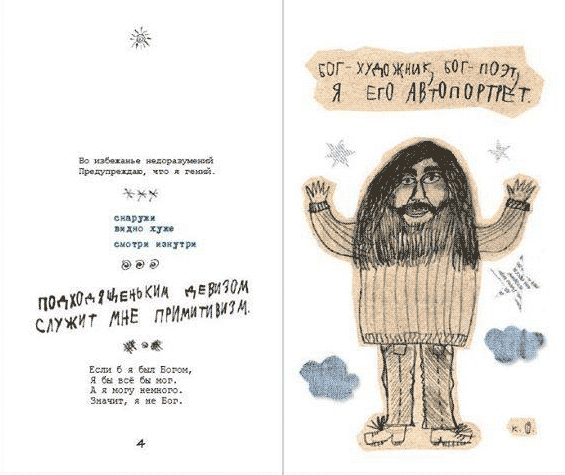 С жабой
С жабой
Ежа бой
Бабульки побулькивают
Прости,
Мне пора расти
мусор я не выношу
мусор я не выношу
Скотчем
Вот чем
Экой загогулиной
Кот лежит нагулянный
А во сне-то вас нет, —
и так далее; начнешь цитировать — невозможно остановиться. В самом коротком тексте здесь — 4 буквы («Ц… / Тс-с!»), в самом длинном — 24 строки, но запоминается он с лету. Собственно, оборотная сторона щедрости в том, что тексты такого рода — моностихи-«заикалочки», сверхкороткие двустишия — однозначно ощущаются как лукомниковские, даже если вы сочинили их сами (и, например, твитнули). «Принадлежность языку», о которой мы говорили выше, забывается: такая иллюзия — следствие лукомниковской универсальности. В свое время этот поэт опубликовал цикл «Стихи разных лет», в котором присвоил хрестоматийные тексты от Пушкина и Лермонтова до Крученых, объяснив, что плагиат способствует переоценке текста и служит «незаменимым оружием в борьбе против культа гения, авторитетности, мифов аутентичности, оригинальности, креативности. «Вы тоже так можете», если у вас на плечах
Голова.
В ней слова.
Опять-таки — все верно. Слова, да еще и в лучшем порядке. Но мифы аутентичности, оригинальности и креативности слишком сильны: перед нами книга Германа Лукомникова; так может только он.

Андрей Черкасов. Обстоятельства вне контроля. СПб.: MRP, 2018
В прошлом году у Андрея Черкасова вышло три книги — хорошо демонстрирующие, насколько разными могут быть эксперименты, обладающие вроде бы общим эстетическим основанием. В книге «Ветер по частям» Черкасов, главный русский пропагандист блэкаута, подверг этой процедуре собственные ранние стихи — то есть зачеркнул, зачернил в каждом стихотворении все, кроме нескольких, иногда буквально двух, слов, оставив от стихов некий рабочий механизм, мотор поэтической потенции (а может быть, назначив на эту роль те слова, которые когда-то казались проходными, случайными). В книге с длинным названием «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова» Черкасов с помощью телефонной автозамены целиком переписал текст «Слова о полку Игореве» — придя к удивительному результату: технотронная тарабарщина сохранила эпический дух оригинала. Наконец, «Обстоятельства вне контроля» — это книга стихов-стихов, не found poetry, а оригинальных текстов.
Ясно, что граница тут нечеткая и требует оговорок. Название «Обстоятельства вне контроля» — очень точное. Говорящий в этой книге (Станислав Львовский в предисловии называет его внутренним наблюдателем) действительно не может повлиять на то, что попадает в поле его зрения и заставляет говорить о себе, — но было бы ошибкой уподобить поэзию Черкасова тотальному называнию «нового романа» или стихов и прозы Дмитрия Данилова. У наблюдателя есть возможность выбора — если не самих объектов «вне контроля», то отношения к ним:
здравствуйте обломки обрывки осколки окурки
здравствуйте ниточки фантики проволочки колпачки
здравствуйте
доброе утро
все в порядке
все хорошо
Черкасов сознательно делает акцент на простоте («простые ответы / в движущемся полотне эскалатора»), на служебном и отслужившем, на микрособытии, которое способно запустить цепочку ассоциаций с «опущенными звеньями» и вывести в итоге к «последним ответам / в полотне возобновившем движение». Легко забываемый техножест, если вдуматься, обретает грозные связи:
коснитесь
чтобы отметить
тьму
Возможно, главный сдвиг от ранних черкасовских стихов к нынешним состоит в развенчивании рукотворной монументальности. «тротуарная плитка вынута из земли / и сложена в виде дворца советов», а собачья площадка возле высотки на Котельнической интереснее, чем сама высотка, вообще не попадающая в кадр. Невозможно ответить прохожему, «сколько длится / длинный вот этот мост? <…> / там ли бульвар Рокоссовского / а дальше ВДНХ?» — это как сходу посчитать количество парсеков до случайно выбранной звезды. Но в этой предельной близорукости таятся свои возможности — например, не заметить катастрофу (потому что природа/погода свой масштаб как раз сохраняют):
обещали
что будет шторм
облака пыли
вязкие волны
накрывающие с головой
но здесь
на углу Чаплыгина и Покровки
нет ничего
только ослепительные легкие лезвия
едва приподнимающие
над асфальтом
Конечно, можно счесть все это эскапической программой, избеганием «больших тем» — в некоторых текстах такой соблазн чувствуется. Но фокус поэзии Черкасова как раз в том, что большой темой становится малое. Внимание к мелочам, скрупулам, обрывкам — фирменный знак «новых эпиков» (Арсений Ровинский, Леонид Шваб), и не исключено, что Черкасов, которого к ним обычно не причисляют, — самый радикальный из них. Эпические события и лирические переживания творятся в малых пространствах, переулках, разрывах, промежутках, пикселях; места хватает страху, тревоге, гневу и удовольствию («мне ли теперь / сечь воду / кричать на сахар / проклинать каждый встреченный суп // нет / я иду / переулком Колпачным / сначала туда / потом снова / туда»). И при этом здесь возможен окрик из «большого мира»:
«эй пацанчик
лепо ли тебе
в эпицентре?»
Поэт превращается в сенсорный экран, в паутину — но это сущность принципиально открытая: паутина безвольна, но вздрагивает, ощущает боль, может сказать про что-то: «нет сил наблюдать». Здесь можно было бы усмотреть солипсизм — но уверенность в том, что «обстоятельства вне контроля» действительно существуют, благодарность к крышечкам, фантикам, снегу, собакам, перешагивающим «через прозрачный / предмет», совершенно искренняя. Эта-то благодарность до краев насыщает книгу Андрея Черкасова энергией.
 Александр Тимофеевский. Избранное. М.: Воймега, 2018
Александр Тимофеевский. Избранное. М.: Воймега, 2018
В прошлом ноябре Александр Павлович Тимофеевский отметил 85-летие, и этот сборник — юбилейный; в него вошли стихи, написанные с 1950-х по 2010-й, а также поэмы и переводы. Несмотря на впечатляющую карьеру, лейтмотивы поэзии Тимофеевского — вина, неудача, недовольство. «На углу дождливой Моховой / Встретился я как-то сам с собой», — говорится в одном из ранних стихотворений; с этой встречи начинается растянутый на десятилетия самоанализ. В числе нескольких современников Тимофеевский парадоксальным образом подтверждает тезис, который когда-то сформулировал Пастернак в отношении Маяковского, — о том, что поэт сам является предметом своей лирики; только если поэтам эпохи Маяковского пристало самолюбование, во второй половине XX века гораздо уместнее самосуд.
«Воспоминание» Пушкина, величайшее его стихотворение — то, где «И с отвращением читая жизнь мою…», — оказывается подходящим материалом для ремейка в 2010-е: «Зачем же мне смотреть ужасное кино / О том, что жил я так ничтожно?». Когда речь идет о чувстве вины, «ремейк» или отсылка вообще характерны для Тимофеевского. На есенинское «Не злодей я и не грабил лесом, / Не расстреливал несчастных по темницам» Тимофеевский откликается:
Я не служил сексотом,
Доносов не строчил,
Блажной, из пулеметов
По людям не строчил.
<…>
Но был я человеком,
Узнавшим стыд и страх.
Виновным вместе с веком
Во всех его грехах…
Со стержневой темой вины у Тимофеевского органично монтируются другие. Это, во-первых, ощущение гражданственности — от констатации 1950-х: «Примета времени — молчанье…» до исполненного стыда текста о вторжении СССР в Чехословакию. Это, во-вторых, эротика — камерная, негромкая. Это, в-третьих, размышления о Боге — иногда вновь в самоуничижительном ключе, вполне подобающем христианскому дискурсу («Прости меня, о Боже, забудь про все на миг! / О, как же я ничтожен, о, как же ты велик!»), иногда — в контексте того самого времени, примета которого — молчанье или мандельштамовские «полразговорца»:
«По Би-Би-Си передавали,
Вчера Христа арестовали».
«Христос? Я слышал имя это.
Его я даже видел где-то.
Христос… Конечно же, Христос!
Какой же у меня склероз».
Однако в этой стихии стыда есть спасительный путь, намеченная пунктиром миссия, выраженная в очень известном стихотворении конца 1970-х:
Он ищет читателя, ищет
Сквозь толщу столетий, и вот —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.
Сквозь сотни веков, через тыщи,
А может всего через год —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.
Ты скажешь: «Он нужен народу…»
Помилуй, какой там народ?
Всего одному лишь уроду
Он нужен, который прочтет.
И сразу окажется лишним —
Овации, слава, почет…
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.
Можно вновь предположить, что Тимофеевский полемизирует с великими предшественниками; здесь — с поздним ахматовским «Читателем», написанным где-то двадцатью годами ранее: «Чтоб быть современнику ясным, / Весь настежь распахнут поэт. <…> Наш век на земле быстротечен / И тесен назначенный круг, / А он неизменен и вечен — / Поэта неведомый друг». Тем же трехстопным амфибрахием Ахматова утверждает, что «каждый читатель как тайна», но в 1970-е — время, когда множество неподцензурных поэтов особенно мучительно ощущали глухоту и пустоту пространства вокруг себя, — слово «каждый» выглядит диковато; даже галичевские «четыре копии», которые берет «Эрика», уже роскошь. Дело поэта — отправлять письмо в бутылке, сохраняя надежду на коммуникацию с таким же изгоем, как он сам.
Разумеется, смена исторических обстоятельств отразилась и на поэзии Тимофеевского. Как и у других авторов, переживших позднесоветский морок (в первую очередь вспоминаются Евгений Рейн и Михаил Айзенберг), его стих распрямляется, приобретает больший объем. Встреча во сне с «седым старичком», объясняющим, что «смертный сон никому не опасен», в 1990-е читается не как проявление отчаянной тяги к эскапизму, а как исследование новой территории, которая в прошлом не то что была опасной, а просто не показывалась на горизонте. Появляется время для стихов о стихах и о других поэтах, возможность нарочитой, пусть и консервативной игры с фонетикой и заумью. Естественно, что за этим следуют эксперименты с формой: в 2000-е Тимофеевский активно обращается к восьмистишию, концептуализирует его (о русском восьмистишии как новой твердой форме коротко писал внимательный к стихам Тимофеевского Данила Давыдов). Будучи традиционалистом, Тимофеевский не пытается следовать, к примеру, за Хлебниковым, хотя эта фигура для него важна. Но внутренний сюжет его книги — в последовательности малых экспериментов, в ощутимом торжестве, когда они удаются; в конце концов, в постепенном освобождении от чувства вины, и следить за этим сюжетом — волнующе.
 Дмитрий Гаричев. После всех собак. М.: Книжное обозрение (АРГО-Риск), 2018
Дмитрий Гаричев. После всех собак. М.: Книжное обозрение (АРГО-Риск), 2018
Допустим, что существует некая линия русской поэзии — начинается она, предположим, от Бориса Поплавского (хотя что-то притекает в нее, безусловно, и от Мандельштама, и от Тютчева), властно длится в поэзии «Московского времени» (в первую очередь у Цветкова и Кенжеева) и его продолжателей (здесь вспоминается Геннадий Каневский). Это не совсем то, что называют постакмеизмом: тут речь идет скорее об интонации, о подчинении старой, классической просодии новым эмоциональным обстоятельствам — таким, какие мог предложить только XX век, причем вторая его половина. Тревожность и отчаяние здесь спрятаны глубоко под стоицизмом, отдельные слова весят много и упакованы плотно (поэтому к этой линии не принадлежат, например, очень воздушные Айзенберг или Степанова, но принадлежит, по крайней мере текстами последнего времени, Линор Горалик). Такие стихи упорно работают с приметами времени — как настоящего, так и прошлого, соединенного с личными воспоминаниями. Они испытывают на разрыв сладостное звучание русской поэтической речи — ну, а вот это можешь проглотить, обнять, обогнуть?
Короче говоря, вот появилась долгожданная поэтическая книга Дмитрия Гаричева — и, как мне кажется, перед нами блистательное продолжение этой гипотетической линии. Может быть, ее залог успеха в том, как Гаричев сочетает установку на старинный жанр, балладу, с новым содержанием. «Новым» относительно: часто стихи Гаричева говорят о постсоветском безвременье, но описанное в них могло бы происходить и вчера, и 25 лет назад, и иметь прецеденты в далеком прошлом (скажем, во времена библейской книги Исход):
в посёлке первенцы мертвы
без видимых причин.
приходят сизые менты,
опека и священник,
ведут неспешный протокол,
держа оружье на виду,
и ночь стоит как ледокол
в тёмно-зелёном льду
<…>
выходят матери в пальто,
как двадцать лет тому назад,
прожившие хлебозавод
и хладокомбинат.
их руки пропускают снег,
как бы утративший мотив,
как бы освоивший мотив
их пенья трудового
Финал этого стихотворения — «и занимается восток, / и обнимает их», — как раз пример того самого «обнимающего» звучания, укрывающего под собой и вчерашнюю реальность и время Моисея. Музыка стиха способна стать саваном, брезентом, который, как мы помним из истории, известно для чего расстилают на палубе броненосца («в ленту поглядишь, как под брезент»). Даже актуальные культурные квазисобытия («батл сд и джонибоя»), даже острополитическая современность оказываются чем-то уже совершившимся: «губер ли упряжкой алабаев увлекаем с позднего кино — / замахнёшься кладью, как каляев, но внутри все кончилось давно». Так Сорокин, описывая губернатора будущего (которого катают не алабаи, но человек в медвежьей шкуре), говорит о прошлом.
Хорошо известно, что такое остранение: попытка описать знакомые вещи так, будто ты видишь впервые. В стихотворении «margeret» Гаричев совершает попытку взглянуть на своих как не свой: «русские прыгают с гаражей, святочным окружены огнем, / под чужие танки несут ежей, говорят „взглянём”, „помянём”». Однако на самом деле говорящий в этих текстах всегда находится в опасной зоне между «своими» и «чужими». В гаричевских стихах о русской преступности есть опаска и завороженность, которые явственно тянутся из впечатлительного детства в 1990-х — когда за криминальными новостями можно было ходить не в газетный ларек, а в соседний переулок. По мере взросления автора криминальные новости уступали в стране место новому патриотическому пафосу, объединенные с ним идеей воинственности:
не бывает музыки другой —
не было ни в десять, ни в пятнадцать.
флаги машут левою рукой,
карусель не знает, с кем остаться.
жутко в парке юному отцу
в день повиновения усопшим:
прижимает девочку к лицу,
обещает, что еще возропщем.
С этих стихов книга начинается; ближе к концу есть пронзительное стихотворение «брат алексей не выбирал войну…», в котором детская ненависть к чужим (против которых воевал брат Алексей), оборачивается осознанием неправоты «своих» (речь идет о советской Литве и штурме советскими войсками Вильнюсского телецентра в 1991-м). В итоге первоначальная эмоция побеждает, перехлестывая исторический анализ и затрагивая обе стороны: «никому не должно быть прощенья ни на земле, ни в земле. / если нужно, брат ответит еще и еще». Гаричев вообще очень убедительно работает с темой ресентимента, который, в конце концов, движет историю наряду с другими чувствами:
что гайдар ночей не спал, а мать кормила
грудью губернаторских собак
за пакет крупы, осколок мыла,
чтобы в бургеркинг или макдак
шли теперь все ……... из тыла,
в это мне не верится никак.
или чтоб с ветвями краснотала
ради поруганья от ментов
выдвигались против капитала
несколько гуманитарных ртов —
нам носили хлопья из подвала,
тоже примириться не готов.
То же сочетание мотивов детства и ирреального милитаризма, который внезапно оказывается «за все в ответе», мы наблюдаем в повести Гаричева «Мальчики», напечатанной в прошлом году в «Октябре» и вошедшей в последний лонг-лист «НОСа». Но, как и там, в книге «После всех собак» воинственность гасится нежностью — к другим, к беззащитным: «шестипалых и впалых таких, что плечо проходило сквозь, / их оставили нам на расклев на последний год» — это о девочках, одноклассницах, о призраках прошлого. А вот о побежденной природе — которая сама в конце концов победит, кто бы сомневался:
сколько хватит песка, и пока что река не срослась
видишь, правда такая спаслась, как в пруду одноклассник
так слепяще близка; видишь, машут из танковых рощ
русский хвощ и бессмертник напрасник
немощь гневная их искупает военную мощь
не кончается праздник
Вместе с повестью «Мальчики» книга «После всех собак» представляет нам значительного автора. Для меня появление этой книги — большая радость.