Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
I. Предварительные встречи
К моему возрасту (33 года) выходит так, что встрече с каким-то новым культурным явлением предшествует длительный извилистый путь, мозаика из совпадений и легких касаний, упоминаний и приобретений; отслеживание этой цепочки превращается в самостоятельное развлечение, которым я, к моему возрасту — не столь уж великому! — не успел натешиться или напотешиться. Так было и с Владимиром Казаковым: первая сознательная встреча с ним произошла сейчас, а все предшествующие длились годами или десятилетием.
 Поначалу я встретился с Владимиром Казаковым самым ожидаемым образом — просматривая каталог книг «Гилеи», в институтские годы. В магазинах тогда было нетрудно найти его зеленый том «Неизданного» (2003) и пестро смотрящийся сборник драматургии «Мадлон» (2012). Следующая книга, «Неизвестные стихи» (2014), выходила уже как известная мне, тогда я покупал все свежие гилеевские издания, а серия Real Hylaea обладала особой привлекательностью. Формально тогда же состоялись и первые встречи — не с книгами Владимира Казакова, но с творчеством: «Мадлон» и «Неизвестные стихи» были мной прочитаны, но узость взглядов и недостаток литературного и исторического контекста не способствовали погружению, тексты остались мне непонятны и сразу выветрились из головы. Запомнилась только невероятная и чарующая гармония коллажей, опубликованных в книге «Мадлон»: при броской минималистичности средств оставалось загадкой, как автору удавалось добиться такого художественного эффекта, точности расположения, — ведь я не чуток к таким вещам, и тут надо было очень постараться Владимиру, чтобы ко мне пробиться.
Поначалу я встретился с Владимиром Казаковым самым ожидаемым образом — просматривая каталог книг «Гилеи», в институтские годы. В магазинах тогда было нетрудно найти его зеленый том «Неизданного» (2003) и пестро смотрящийся сборник драматургии «Мадлон» (2012). Следующая книга, «Неизвестные стихи» (2014), выходила уже как известная мне, тогда я покупал все свежие гилеевские издания, а серия Real Hylaea обладала особой привлекательностью. Формально тогда же состоялись и первые встречи — не с книгами Владимира Казакова, но с творчеством: «Мадлон» и «Неизвестные стихи» были мной прочитаны, но узость взглядов и недостаток литературного и исторического контекста не способствовали погружению, тексты остались мне непонятны и сразу выветрились из головы. Запомнилась только невероятная и чарующая гармония коллажей, опубликованных в книге «Мадлон»: при броской минималистичности средств оставалось загадкой, как автору удавалось добиться такого художественного эффекта, точности расположения, — ведь я не чуток к таким вещам, и тут надо было очень постараться Владимиру, чтобы ко мне пробиться.
Чтобы рассказать о следующей моей встрече с Владимиром Казаковым, нужно описание предшествующего ей периода и события. В начале 2014 года я опубликовал рецензию на другое издание из серии Real Hylaea, двухтомник «Футуризм и всечество» Ильи Зданевича, как оказалось позже, замеченную и положительно отмеченную в издательстве. В конце года 2014 года произошло знакомство с гилейцем, переводчиком Боба Блэка (книга «Анархия и демократия» как раз только вышла) и барабанщиком Александром Умняшовым — и уже в январе 2015-го мы с ним вместе выступали в составе группы «Ленина Пакет». В июле состоялось знакомство с Сергеем Кудрявцевым, за ним неспешно последовали большое интервью и моя статья об истории «Гилеи». В интервью (2017) был и вопрос о Владимире Казакове, в силу крайней содержательности ответа процитирую его целиком:
«Владимира Казакова, кроме вас, никто не издает в России, он не слишком известный, а вы, напротив, им занимаетесь с самого начала основания издательства и что-то новое выходит с определенной периодичностью. Как вы вышли на него и чем он вас так привлек? Многое ли у него осталось неизданным? С каких произведений стоит начинать знакомство с ним?
Я узнал про него уже после его смерти, только в начале 90-х. На каком-то вечере или спектакле познакомился с его мамой Тамарой Павловной Авальян и вдовой Ириной Казаковой. Наверное, это было на одном из представлений режиссера Александра Пономарева, который в ту пору его ставил. Они подарили некоторые немецкие издания Казакова на русском, других тогда и не было, хотели издавать его в России, все архивы хранились у них. Уже в 1993-м маленьким тиражом я напечатал его «Дон Жуана», а через пару лет — красный трехтомник, с которого как раз лучше и начинать читать его стихи, драмы, прозу. Потом вышли еще три книги. Речь у нас шла об опубликовании, главным образом того, что в Германии не выходило, и это было абсолютно разумно — ведь экземпляры немецких изданий, хранившиеся у Тамары Павловны дома, активно расходились в Москве по рукам и даже стали продаваться в магазине «Гилея».
Я тогда отнесся к нему как к прямому продолжателю русских футуристов и обэриутов — да он и сам это так или иначе подчеркивает: Крученых, Хлебников, Харджиев и другие становились героями его прозы. Но именно как к настоящему продолжателю, а не эпигону или популяризатору. В нем, наверное, живет самый нежный и сновидческий путь из проложенных русским авангардом в будущее. Потом, став меньше сосредоточиваться на футуризме и близких к нему течениях, я понял, что Казаков — просто настоящий поэт, которому никакие другие характеристики не нужны, и он вне школ и направлений. Мы с Ириной все двадцать лет последовательно осваивали новые залежи в его архиве, воспроизводили также его картинки и коллажи. Теперь, после очередной порции неизвестных стихов, вышедших в серии Real Hylaea, Ирина говорит, что ничего больше не осталось, разве что надо заново напечатать то, что было в тех немецких книжках. Правда, составляя последний сборник, мы отбросили что-то не очень интересное, да еще, как я понял, она не думает вытаскивать на свет совсем уж личное.
Что касается его неизвестности, то могу здесь только припомнить слова Ильязда, сказанные и о самом себе: «Лучшая судьба поэта — быть забытым». Я, в общем-то, рад, что о Владимире Казакове не так часто пишут и не издают его как попало.
Личное дружеское общение с Сергеем продолжилось и после интервью, а красный гилейский двухтомник Владимира Казакова (1995) в какой-то год был мне подарен самим издателем (редкий случай — это издание до сих пор есть в продаже, при тираже в 1000 экземпляров). Потребность во вдумчивом прочтении Казакова нарастала, но время еще не пришло. А годы шли один за другим.
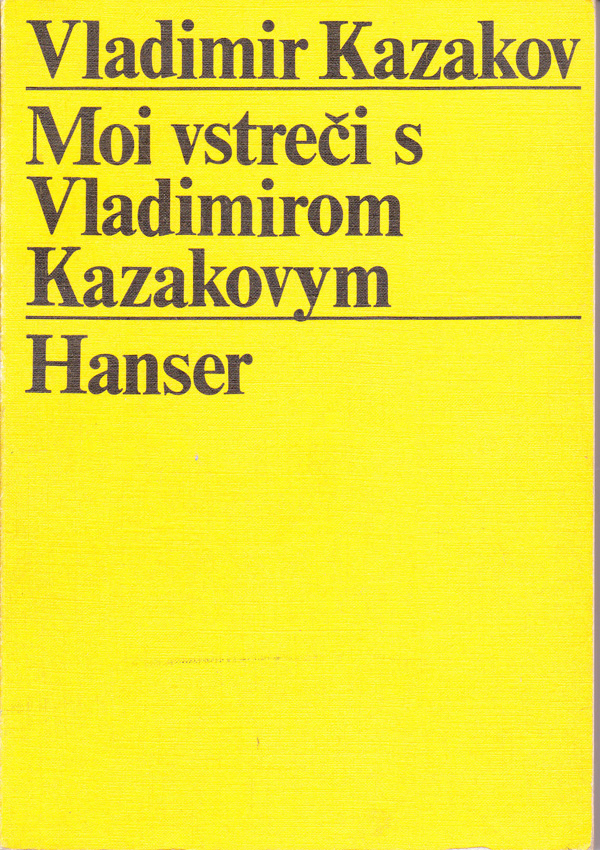 Уже в 2022 году Александр Умняшов рассказал мне, что занимается передачей архива Владимира Казакова в музей, поскольку его вдова, Ирина Казакова, болеет по старости и не готова больше им заниматься. В другой раз он организовал мою очередную встречу с Владимиром Казаковым, подарив мне две изданные в Мюнхене в стародавние времена книги автора: «Жизнь прозы» (1982) и «Мои встречи с Владимиром Казаковым» (1972). Я их пролистал, удивившись репринтному воспроизведению машинописей внутри, и сложил на отдельную полочку — теперь уже для близкого чтения. Так в моей библиотеке оказалось уже восемь книг Владимира Казакова из двенадцати.
Уже в 2022 году Александр Умняшов рассказал мне, что занимается передачей архива Владимира Казакова в музей, поскольку его вдова, Ирина Казакова, болеет по старости и не готова больше им заниматься. В другой раз он организовал мою очередную встречу с Владимиром Казаковым, подарив мне две изданные в Мюнхене в стародавние времена книги автора: «Жизнь прозы» (1982) и «Мои встречи с Владимиром Казаковым» (1972). Я их пролистал, удивившись репринтному воспроизведению машинописей внутри, и сложил на отдельную полочку — теперь уже для близкого чтения. Так в моей библиотеке оказалось уже восемь книг Владимира Казакова из двенадцати.
Также Александр поведал мне некоторые детали из жизни писателя. Оказалось, что с начала 1980-х он жил в затворничестве, сузив круг общения до нескольких близких человек, и даже с мамой общаясь через записки, оставляемые в почтовом ящике, и так вплоть до смерти в 1988 году — жил эдаким хикки, что мне показалось печальным и трагичным и для человека, и для его родных.
Так к интересу к творчеству добавился интерес к биографии. Даже не совсем так: вопросы взаимосвязи творчества и безумия, творческой жизни и саморазрушения, влияние творческого человека на близких, созависимые отношения — все это входит в область волнующих меня вопросов (важных с позиции осмысления того, как избегать подобных сценариев, — почти весь мой круг общения до сих пор состоит из творческих людей). Другой нужной для меня деталью стала новость о крещении Владимира Казакова в 1972 году — в «Автобиографии» он писал об этом так: «В июле 72-го года я был крещен по обрядам Русской Православной Церкви. Считаю это самым важным и самым светлым событием в своей жизни». Александр процитировал это своими словами. Понятное мне высказывание делало биографию еще более интересной.
И вот на дворе 2023 год. За него произошли некоторые встречи и события, говорить о которых пока преждевременно, и еще одно, о котором рассказать необходимо. Тут прямая линия сделала неожиданный и обаятельный зигзаг. Началось все с прочтения интервью с поэтом Александром Скиданом, работающим над поэтической серией «НЛО». Из всего интервью мне наиболее запомнился и приглянулся его рассказ о неизвестной мне поэтессе и совместной работе с ней (привожу цитату полностью, она удачно напоминает о сложностях взаимоотношения между творческими людьми и их творчеством, с этой позиций схожими с казаковскими):
«Владимир Коркунов: Помню ваши слова о книге Елизаветы Мнацакановой: о сложностях с коммуникацией, переносом рукописей в макет и так далее. Расскажите, как ведется редакторская работа в серии на конкретном примере.
Александр Скидан: Я унаследовал эту книгу от Ильи Кукулина, но работа застопорилась еще до меня. Дело в том, что Елизавета Аркадьевна решила включить в книгу тексты, которых не было в полученной нами рукописи. Из разных малодоступных изданий, где были соединены рукописная и визуальная составляющие, элементы коллажа, полиграфический шрифт, шрифт печатной машинки и так далее. Некоторых текстов в электронном виде не существовало и получить их было крайне сложно (Елизавета Аркадьевна не очень дружила с компьютерными технологиями). Что-то удалось скомпоновать, скомпилировать, получив доступ к ее рукописям и машинописям, а что-то, увы, нет.
Был период, когда мы говорили по два-три раза в день. У меня голова шла кругом, потому что телефонные разговоры были очень сложными. По телефону вообще сложно решать проблемы, связанные с конкретными текстуальными задачами. Вдобавок возникло курьезное непреодолимое препятствие: Елизавета Аркадьевна долго отказывалась подписать договор с издательством, потому что в одном из пунктов оговаривалась невозможность со стороны автора вносить изменения в рукопись на стадии верстки. Я не помню точной юридической формулировки. Как бы там ни было, проблема заключалась в том, что без договора книгу невозможно отдать в печать и даже толком сверстать. Все застопорилось, а Елизавета Аркадьевна продолжала настаивать на редактуре, а подчас и новых версиях целых кусков. Книга для нее была открытым процессом, work in progress. Я не знал, что делать, как убедить ее остановиться.
В какой-то момент подключился Владимир Аристов. Он дружил с Елизаветой Аркадьевной и, в отличие от меня, бывал у нее в гостях в Вене, и передавал от нее некоторые материалы. Аристов вообще принял большое участие в работе над книгой и торопил меня с изданием, понимая, что здоровье Елизаветы Аркадьевны ухудшается. Он очень хотел, чтобы книга вышла при ее жизни. И в какой-то момент я взял на свой редакторский страх и риск задачу по перекомпоновке книги. Решил, что пора остановиться.
ВК: Подготовку избранного нельзя завершить, ее можно только остановить.
АС: Да, потому что Елизавета Аркадьевна захотела включить в книгу еще десяток эссе, и это застопорило бы работу еще на пару лет, потому что эти эссе тоже были разбросаны по малодоступным изданиям. Их тоже не было в электронном виде.
Потом периодически у Мнацакановой что-то случалось с компьютером, и она исчезала, не отвечала на письма. Ассистенты присылали сканы не тех текстов. Это повторялось множество раз, мы ходили кругами. Я был в отчаянии.
И это отчаяние привело к тому, что я, не получив карт-бланш на отказ от нескольких текстов (сканы с рукописными вставками смотрелись плохо: между набранными стихами и сканами был слишком большой контраст), отправил книгу в печать. К этому меня подвиг наш новый верстальщик Дмитрий Макаровский, и я очень ему благодарен. Если бы мы протянули еще полгода-год, случилась бы катастрофа: Елизавета Аркадьевна не успела бы подержать эту книгу в руках.
ВК: Сколько лет, с учетом нахождения рукописи у Ильи Кукулина, продолжалась работа над книгой?
АС: Десять, если не больше».
Результат такого титанического и комического труда захотелось оценить! Книга «Новая Аркадия» была в продаже, я ее купил. И вот, уже совсем подходя к прочтению Владимира Казакова, все же взял с полки не его, а ее. Мнацаканова оказалась действительно оголтелым человеком, погруженным в свой творческий метод, это сильная и симпатичная поэзия. Затем я взял в руки «Жизнь прозы» Владимира Казакова. И обнаружил там предисловие Мнацакановой! Она была единственным автором-коллегой, писавшим предисловия к Казакову. Именно такие «малодоступные издания», очевидно, и имел в виду интервьюируемый. И из всего необъятного объема литературы в руки мне упала именно она, задав курс на новую первую встречу.
II. Другие встречи
Встреча 2.1. «Жизнь прозы» (роман)
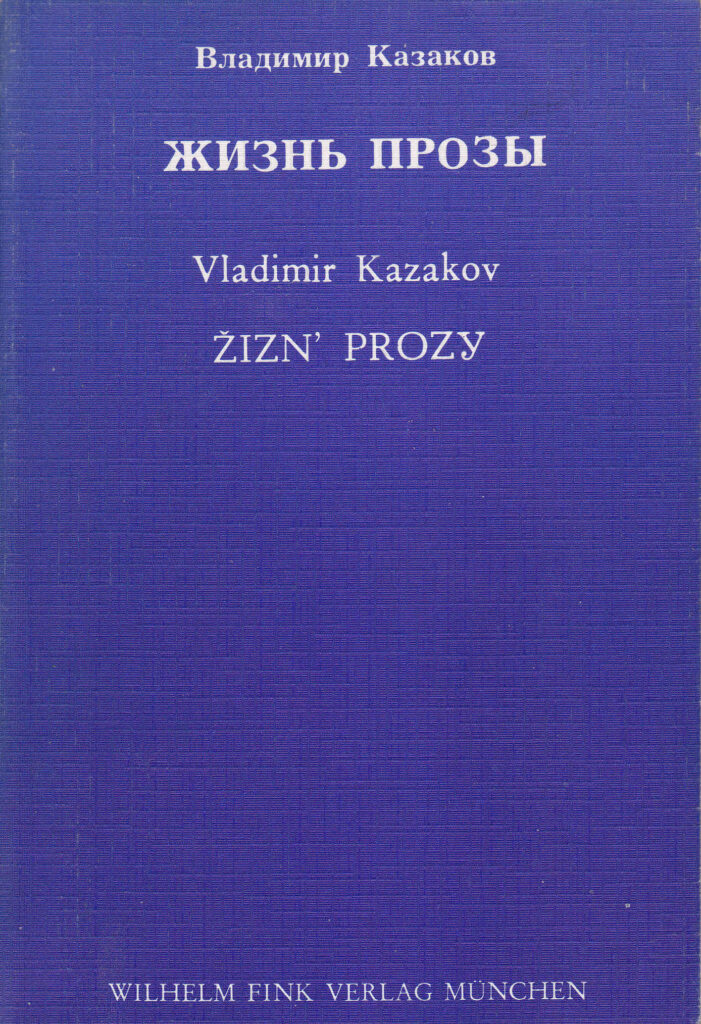 В «Жизни прозы» первыми внимание на себя обратили абсурдистские афоризмы и шутки (шутил ли автор?) как броская деталь. Но складывалась она с остальными элементами в единое целое неожиданным образом — скорее это был тревожный экспрессионизм, я не мог отделаться от ощутимого сходства с прозой и драматургией Леонида Андреева. Умеренный (на фоне Казакова) абсурд Андреева говорил о том, что автор не понимает жизнь, она его пугает и нервирует. Усиленная (на фоне Андреева) густота литературных приемов Казакова иными средствами транслировала то же восприятие.
В «Жизни прозы» первыми внимание на себя обратили абсурдистские афоризмы и шутки (шутил ли автор?) как броская деталь. Но складывалась она с остальными элементами в единое целое неожиданным образом — скорее это был тревожный экспрессионизм, я не мог отделаться от ощутимого сходства с прозой и драматургией Леонида Андреева. Умеренный (на фоне Казакова) абсурд Андреева говорил о том, что автор не понимает жизнь, она его пугает и нервирует. Усиленная (на фоне Андреева) густота литературных приемов Казакова иными средствами транслировала то же восприятие.
Отдельным впечатлением стал помещенный в тело книги блок писем Казакова к будущей жене Ирине — за время этой переписки они и поженились. Вдохновенные, напористые и игривые письма, в которых он называл понравившуюся ему девушку «Матрешечкой» и делал частью своего художественного мира, обволакивая литературным взглядом и перемежая его с влюбленным общечеловеческим, — по ходу разворачивания цикла Ирина включается и в игру, и судьбу писателя, — на всю свою оставшуюся жизнь, о завершении которой в сентябре 2022 года сообщил мне при очередной встрече Александр Умняшов. К этому моменту я столкнулся с творчеством брата Владимира, художника Алексея Казакова, автора замечательных духовных абстракций, начинавшего рисовать под руководством брата и иногда работавшего с ним вместе, а затем углубившегося в духовную жизнь и ставшего монахом о. Арсением.
Письма брата или упоминания о совместной работе с ним также встречались в «Жизни прозы», как и мемуарные или эпистолярные эпизоды, связанные со старыми деятелями авангарда, с которыми Казаков общался, — Николаем Харджиевым и Алексеем Крученых. Вместе это давало картину счастливого семейного или дружеского единения, которое Владимир Казаков выстроил вокруг своего творчества, перестроенную реальность, кардинально выпадающую из окружающей советской действительности. Это, с одной стороны, производило вдохновляющее впечатление, а с другой — сильно отличалось от известного последнего периода жизни Владимира Казакова, грустного.
Так вставал ведущий вопрос: было ли последующее неизбежным результатом диалектического развития предыдущего, или же взаимосвязь между ними была устроена иным образом? Нащупать варианты ответа на него мне захотелось в дальнейшем путешествии по жизни прозы, поэзии и драматургии (и биографических материалов) Владимира Казакова.
В завершение этой встречи выпишу одно из писем Владимира к будущей жене (третье), хотя другую его прозу я не цитировал, так что уловить сходство с ней будет трудно, но текст ведь все равно звучит самодостаточно:
«Милая Ира,
я все еще не могу начитаться Вашим письмом. Какие голубые, детские буквы! Знаете, вчера какую-то пророческую прозрачность обрел вокруг меня воздух. Я думал о будущей Вашей судьбе, великие предчувствия стеснили мне грудь. Это трудно высказать и объяснить, но еще труднее — не высказать. Я видел как бы края времен, где последние мгновения затихали. Ослепительная голубизна, вечная жизнь начинались там. Ваш милый и чудный облик я видел. Благодаря Вам я с новым жаром приступил к прозе. Два больших корявых листа написал. Молюсь о вас и думаю непрестанно. Я понимаю, что слишком смело пишу вам, но это не от смелости, а от любви. Какое-то слово мерцает в воздухе. Ну да: м а т р е ш е ч к а. Я виделся с Сашей, ему тоже очень понравилось это имя. Ира, милая, пожалуйста, пишите мне больше. И пожалуйста, чаще. Какие удивительные строки вы находите в воздухе! Я рассказал брату о том, как Вам понравились его работы. Он улыбался счастливо. Вам от него поклон. Кланяйтесь и Вы Оле».
Встреча 2.2. Собрание сочинений в трех томах, т. 1. «Ошибка живых» (роман)
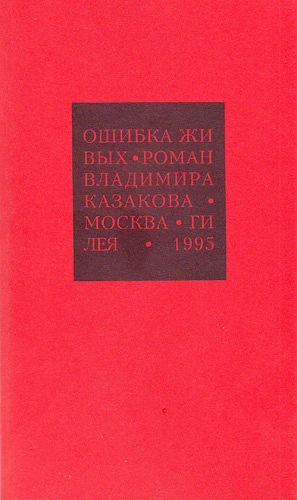 Управившись с первым и общим эстетическим впечатлением, на второй книге я начал обращать внимание на технические детали. Проза Казакова преимущественно бессюжетна и состоит из склеенных кусков, формально напоминая о «методе нарезок» Брайона Гайсина и Уильяма Берроуза. Склейки явные, но при погруженном чтении не бросаются в глаза, перетекание одного в другое органичное и плавное. Прозаические куски разнообразны, не только а-ля экспрессионизм, хотя вспоминается в первую очередь он. Следом идут драматургические вставки, те самые абсурдистские афористичные диалоги. Есть еще стихи, разный эпистолярий и мемуарные фрагменты, это посвящено семье либо авангарду. Есть сквозные повторяющиеся элементы и мотивы. При этом проза создает частично безумное впечатление, нет чувства надуманности или следа литературщины, скорее будто Казаков перенял некоторые приемы авангарда, чтобы научиться расслабляться в литературном труде и транслировать естественный для себя поток мыслей из головы, добиться органичности течения слов.
Управившись с первым и общим эстетическим впечатлением, на второй книге я начал обращать внимание на технические детали. Проза Казакова преимущественно бессюжетна и состоит из склеенных кусков, формально напоминая о «методе нарезок» Брайона Гайсина и Уильяма Берроуза. Склейки явные, но при погруженном чтении не бросаются в глаза, перетекание одного в другое органичное и плавное. Прозаические куски разнообразны, не только а-ля экспрессионизм, хотя вспоминается в первую очередь он. Следом идут драматургические вставки, те самые абсурдистские афористичные диалоги. Есть еще стихи, разный эпистолярий и мемуарные фрагменты, это посвящено семье либо авангарду. Есть сквозные повторяющиеся элементы и мотивы. При этом проза создает частично безумное впечатление, нет чувства надуманности или следа литературщины, скорее будто Казаков перенял некоторые приемы авангарда, чтобы научиться расслабляться в литературном труде и транслировать естественный для себя поток мыслей из головы, добиться органичности течения слов.
Бессюжетность делала чтение более сложным, трудно удерживать внимание, но разреженность прозы (особенно в драматургических кусках) и умеренный объем задавали бодрый ритм. Сходство с Андреевым тут уже не особо улавливалось, видимо, субъективность моего восприятия была слишком сильна и оттого могла меняться по субъективным причинам — общая атмосфера прозы стала более неуловимой, но интерес к чтению сохранялся.
Встреча 2.3. Собрание сочинений в трех томах, т. 2. «Врата»; «Дон Жуан» (драмы)
Драматургические куски в прозе выглядели весомо и создавали впечатление, что отдельные драмы могли бы быть хитовыми и более легкими для восприятия. Драматургический потенциал Казакова подкреплялся рядом внешних фактов: и тем, что в Германии ставились аудиоспектакли, и названиями статей о Казакове типа «Долгожданный Годо», и интересом автора книги про Беккета Анатолия Рясова (драмы Казакова были включены им в сборник «Кто сломается первым»).
Впечатление оказалось и ошибочным, и верным. Ранние драмы выглядели как куски из прозы, сюжетной завершенности к ним не добавлялось, в этом смысле они скорее разочаровали. Но вот «Дон Жуан», большая вещь 1983 года, т. е. написанная уже в затворничестве, была совсем иной: знакомый литературный сюжет задавал основу действия, на которое нанизывались казаковские темы, приемы и художественные проделки — из-за силы авторской личности это было далеко от пародии, но смешное или трагическое обыгрывание первоисточника присутствовали. Можно сравнить с «хармсинкой», но и тут — слишком авторский вариант, другие цели. Мне скорее приходит на ум сравнение с книгой Сергея Тюрина «Похожденiя богатенькаго сыщика Егора Калинина». В общем, «Дон Жуан» оказался как раз тем ярким хитом, который сможет с легкостью и удовольствием воспринять не погруженный в творчество Владимира Казакова человек.
Встреча 2.4. Мои встречи с Владимиром Казаковым (сборник)
Эта изданная в Мюнхене книга была для автора печатным дебютом. Стиль, знакомый по следующим ближайшим работам, еще только формировался, есть и отличия, но самые яркие для меня произведения оказались ближе как раз к поздним. Это абсурдистские эскизы на историческом материале, меньшие по объему, чем «Дон Жуан», т. е. находка была сначала отброшена, а потом возвращена и оформлена с новым обрамлением. Некоторые такие вещи были ближе к знакомой советской самиздат-литературе, другие же, созданные совсем вскоре, — дальше. Традиция авангарда в них есть, но преломлена и подстроена автором под себя. Чтение всего сборника сохраняло живость и приятность.
Встреча 2.5. Собрание сочинений в трех томах, т. 3. Стихотворения
А вот стихи, как и при первом давнем их прочтении, от меня ускользали. Преимущественно более классической формы, но отличные от прозы, какие-то пейзажные зарисовки есть, а в остальном даже трудно сказать что, не смог уловить ни сюжета, ни атмосферы, только если в отдельных стихах, но это не проецировалось на другие или на всю книгу целиком. Одно стихотворение-исключение процитирую, оно в книге идет последним, закрывая раздел «1983–1988»:
***
Христос на ослике въезжает в славный город
и встретившийся дождь поет свои псалмы,
а воздух не то нет, не то полуразрушен
дождем и немотой ликующей толпы.
так хочется Его святых одежд коснуться!
ведь слишком краток миг: он кратче, чем ничто,
и остается день с его бездонной ночью
и остается ночь с ее дневной мечтой.
а ветер как стоял, так и стоит поодаль,
не зная, как же быть — откуда и куда?
и ослик не спешит, чтоб царственный Наездник
светло опережал вечерние года.
После пяти встреч у меня вырисовалась некоторая общая картинка творчества Владимира Казакова, теперь можно было вглядеться в какую-то внутреннюю динамику, учесть периодизацию. Получилось, что ранний этап начинался с 1965 года (в «Автобиографии» обозначен как «начало писательства»), доходил до «Моих встреч» и содержал много стихов. Затем пошли основные романы, «Ошибка живых», «От головы до звезд», «Жизнь прозы», сборник драматургии «Врата» — все это написано до 1974 года включительно. Затем, по всей видимости, писательский задор уменьшился, пока что мне он был знаком только по стихам. С начала восьмидесятых дошло до «Дон Жуана», но после 1983 года оставались лишь отдельные стихи. Обнаружились лакуны, но оставались и непрочитанные книги.
Архивные материалы позволили наложить это на биографию. В юности Казаков жил активной социальной жизнью, менял работы и занятия. Если проза создавала впечатление погруженного в себя человека, то, судя по материалам, выходило иначе — много контактов и увлеченная коммуникация с людьми, из мемуаров он оставлял впечатление открытого и яркого человека, действующего с позиций непризнанного гения. Хотя активная социальная жизнь не означала хорошую социализацию — прослеживалась частая (импульсивная) смена работ... Потом были крещение в 1972 году и женитьба в 1974-м. Затворничество же с начала 1980-х было вызвано физической болезнью, на которую накладывались депрессии. Видимо, сужение круга общения было постепенным процессом. Еще раз пройтись по биографии хорошо помогли «Неизданные произведения», в которых собраны материалы с 1971 по 1982-й.
Встреча 2.6. «Неизданные произведения» (сборник)
 Ирина Казакова в предисловии поясняла трудности, связанные с публикациями текстов Владимира. Сообщение о принципах объединения в циклы («отдельные работы собирались в книги в основном по хронологическому принципу, то есть объединялись вещи, написанные, грубо говоря, за год работы, и такой сборник получал название по одному из основных произведений») дополнялось сообщением об их условности, перетасовках между ними. Также в книги не входили вещи, опубликованные в журналах. Идти дальше книг я не готов, мое исследование не исследовательское, но читательское, а выводы, сделанные на неполной выборке, легко могут быть ошибочными — так что предупреждаю читателей о неавторитетности этой статьи как источника информации и двигаюсь дальше.
Ирина Казакова в предисловии поясняла трудности, связанные с публикациями текстов Владимира. Сообщение о принципах объединения в циклы («отдельные работы собирались в книги в основном по хронологическому принципу, то есть объединялись вещи, написанные, грубо говоря, за год работы, и такой сборник получал название по одному из основных произведений») дополнялось сообщением об их условности, перетасовках между ними. Также в книги не входили вещи, опубликованные в журналах. Идти дальше книг я не готов, мое исследование не исследовательское, но читательское, а выводы, сделанные на неполной выборке, легко могут быть ошибочными — так что предупреждаю читателей о неавторитетности этой статьи как источника информации и двигаюсь дальше.
Ранние прозаические вещи, «Незаживающий рай» и «Продолжение воздуха», вновь удивляли задором и энергией. Крещение Казакова нашло свое отражение в третьем сборнике, представленном в книге, «В честь времени». Среди врезанных в одноименный роман цитат появляются цитаты из Святых Отцов, и даже такое замечание: «Я пишу по послушанию, ибо мой духовник о. Кирилл не разрешает мне бросить писательство» (письмо о. Кирилла уже встречалось мне в «Жизни прозы»). Но интересна и такая цитата, показывающая направление авторского взгляда:
Однажды Николай Иванович Харджиев показал мне Евангелие, подаренное ему Даниилом Хармсом в начале 40-х годов. Подарок оказался прощальным, так как с того дня до гибели Хармса, последовавшей в ленинградской тюрьме, они уже не виделись. Я с волнением держал в руках эту книгу — обычное издание небольшого формата, с потемневшим уже переплетом.
Позже, спустя два или три года, когда мы с Н. И. говорили о Введенском и Хармсе, я поведал ему свою расшифровку их имен как — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ, он горячо со мной согласился, сказав: «Не случайно же Хармс завещал мне именно Евангелие!»
В целом христианские фрагменты оставались единичными, а в других произведениях отсутствовали.
Затем шли рассказы из «Жизни прозы», книжная версия которой была не единственной, но датированный текст из нее также помечен 1974 годом, а следующий сборник, «Клейменая ночь», включал в себя тексты 1977—1978 годов. Был ли в этот период у Владимира перерыв в писательстве? Похоже на то: помимо стихов, других текстов 1975 и 1976 года я не встретил. Последующие тексты, вплоть до «Дневника Игрока» (1980–1982), включают в себя больше стихов и в целом читаются более вяло, казаковские мотивы и даже конкретные фразы все чаще повторяются... Исключения составляют сцены на исторические или литературные сюжеты, напоминающие «Дон Жуана», среди них есть отличные удачи и находки, но самое сильное оформление это творческое направление нашло именно в «Жуане». С другой стороны, не стоит сбрасывать их со счетов, они скорее дополняют и расширяют простор ключевой вещи, а не затемняются ей.
Встреча 2.7. «Мадлон» (сборник)
Небольшой по объему сборник включает не только драматургию, но основное его пространство занимают драмы, вновь для меня группирующиеся вокруг «Дон Жуана». Самая большая вещь, «Мадлон», 1984 года, т. е. написана после него и отличается; она могла бы нащупать дорогу к новому стилю, но следующих результатов уже, похоже, не было... А в ней еще не развернулось. Хороша небольшая драма по мотивам Островского.
Закрывала сборник большая статья поэта Еременко с критикой литературоведов, употребляющих слово «абсурдизм» по отношению к Казакову, — и длинный ряд других грехов. Статья содержала интересные мысли, но мне показалась интонационно тяжелой. Занятно, что Еременко я впервые прочитал в этом году, незадолго до Казакова, аналогично случаю с Мнацакановой.
А коллажи все так же хороши и великолепны. Есть еще картины. Когда Казаков создавал свои визуальные работы? Мне не довелось узнать датировок. Картины похожи на те, что рисовал брат Алексей, но у Алексея разброс художественных стилей был шире. Хотя ничего схожего с коллажами он не делал, а коллажи коллажи коллажи. Их спокойная гармония сильно контрастирует с прозой, которая все же из раза в раз звучит тревожно. В любом случае, это направление творчества сильно расширяет художественный мир Владимира Казакова, учитывая, что многообразие подходов у него есть и внутри слов — а тут еще шире. Широк человек!
Встреча 2.8. «Неизданные стихотворения»
Интересно, что эти стихи шли у меня проще, чем предыдущий сборник. Кажется, они стали понятнее не благодаря тому, что понятнее, но благодаря тому, что в них встречались знакомые по прочитанному объему мотивы, идеи, ходы, и через это узнавание они теперь становились ближе, появлялась узнаваемость и предсказуемость. Хотя есть и просто понятные сценки, связанные если не сюжетом, то одним местом действия, и еще тут были опубликованы дополнительные фотографии или обложки рукописных книг, такой сборник получился уже с ностальгической ноткой, он был издан последним, и в предисловии говорилось, что им завершается работа над изданием наследия Владимира, но то ли еще будет?
Встреча 2.9. «От головы до звезд» (роман)
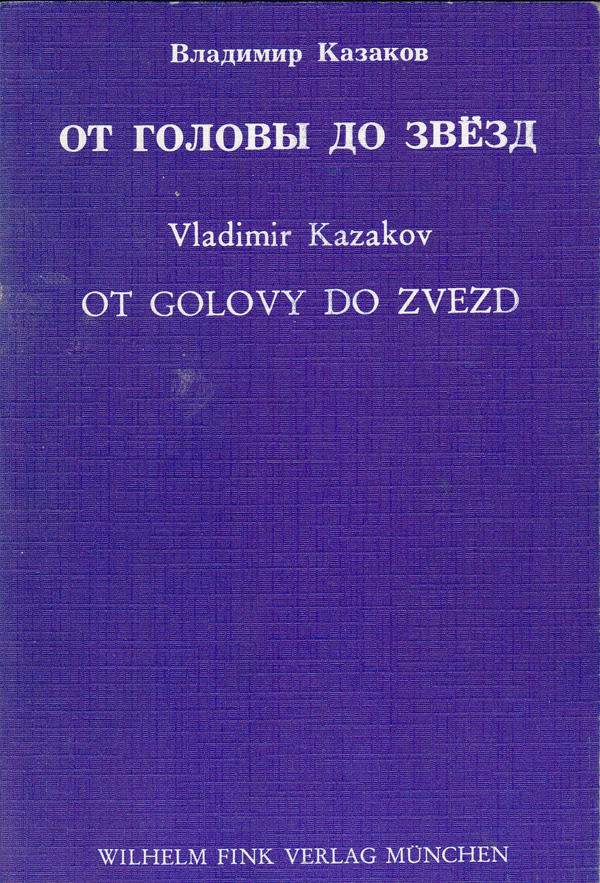 Предыдущая встреча была бы завершающей в цикле «других встреч», если бы за это время я не был одарен мюнхенским изданием «От головы до звезд». Также я узнал, что «Случайный воин» — это сборник из других произведений, из двенадцати книг оригинальными оказались не десять, а девять, и вот девятая.
Предыдущая встреча была бы завершающей в цикле «других встреч», если бы за это время я не был одарен мюнхенским изданием «От головы до звезд». Также я узнал, что «Случайный воин» — это сборник из других произведений, из двенадцати книг оригинальными оказались не десять, а девять, и вот девятая.
Роман поначалу пошел живо, и виден блеск на всем протяжении, на фоне поздних похожих текстов — он условно-явственно заключается в концентрации и насыщенности прозы, но все же однообразие авторского мира тут давало о себе знать не в лучшую сторону, и местами чтение переключалось на автопилот, в других местах продолжая приносить удовольствие. Новых открытий роман не дал, но они и не ожидались.
Встретил тут вновь Мнацаканову в предисловии! И вновь банальные мысли сочетались у нее с лихо закрученным и художественно оформленным погружением в текст. Внимая ей и выписывая свое, я в который раз подумал, что я довольно плохой читатель Владимира Казакова... Впрочем, об этом лучше в III разделе. А пока — цитата из Мнацакановой, она проиллюстрирует контраст:
Короткое на многих языках слово выражает лишь страх. Мы, люди, боимся. Наш страх мы выражаем восклицанием: «Смерть!» «Морт!» «Тод!» «Морс!» Это короткое, как выдох, слово скрывает за собою лишь страх. Но ни в какой степени не живописует явление, не выражает сущности его, не отражает процесса; НЕ выражает; НЕ живописует; НЕ именует; нет здесь, стало быть, главного в слове, того, что ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ делает ИМЕНЕМ СУЩИМ, именем предмета, реального ли, абстрактного ли...; нет ИМЕНОВАНИЯ, как нет и ОПИСАНИЯ явления. Явление не названо; названия, на-звания, про-звания — нет... Есть лишь восклицание страха...
Явление не названо. Не выражено. Не определено.
Что же происходит? Если в нашем человеческом языке до сих пор нет нашлось точных дефиниций для явления — то что это может означать?
Не означает ли это наше человеческое нежелание примириться с неким фактом, который мы не хотим называть?.. Или — что, мне кажется вероятнее, — не означает ли это, что факт, не названный нами, нами и не понят до конца, не осознан; наша мысль не следует дальше некой черты.
Эта линия обрывается где-то между нами и темнотой. Между мною и воздухом. Между Владимиром Казаковым и Прозрачностью. Прозрачностью секунд и стекла. Прозрачностью туманной черты — от головы до звезд.
Так мы подошли к одной из главных тем романа: теме НЕ-бытия; БЕЗ-молвия; прозрачности пустых пространств; всем этим Автор хочет описать, понять и ОСОЗНАТЬ не что иное, как феномен смерти.
Так мы НА-ЗВАЛИ, НА-ИМЕНОВАЛИ, — отметили главную тему романа, его тайную, скрытую, неназванную цель: выразить в слове, речью и буквой, звуком и scripto, нечто такое, что составляет тайное тайных нашего бытия и одновременно не есть бытие наше; что таится во тьме — в любой: во тьме ли сознания нашего, во тьме ли вселенной, в туманности пустоты, что окружает нашу видимую и нами осязаемую жизнь; во тьме — или при свете? — звездного пути нашей мысли, линии жизни нашей, что протянута — во тьме или в лучах? — между нами — и бесконечностью; между нами — и бессмертием? — от головы до звезд.
Своим словом, речью своей, ЖИЗНЬЮ ПРОЗЫ своей, Автор стремится нащупать эту грань между бытием и НЕ-бытием; тем, что он попеременно именует и выражает то как прозрачность воздуха, то как прозрачность стекла, то как видимую тьму вокруг нас... Я думаю, что мало найдется в этом мире художников, мастеров, которым удалось бы с такой силой самоотречения, с таким исступлением веры — веры в могущество слова — проникнуть за эту грань, чтобы добыть нам, хрупким мимолетностям воздуха, частицу истины о нас и о тьме, что нас окружает.
III. Послевстречие
Василиса Шливар, «Картины абсурдного мира в прозе Владимира Казакова» (монография)
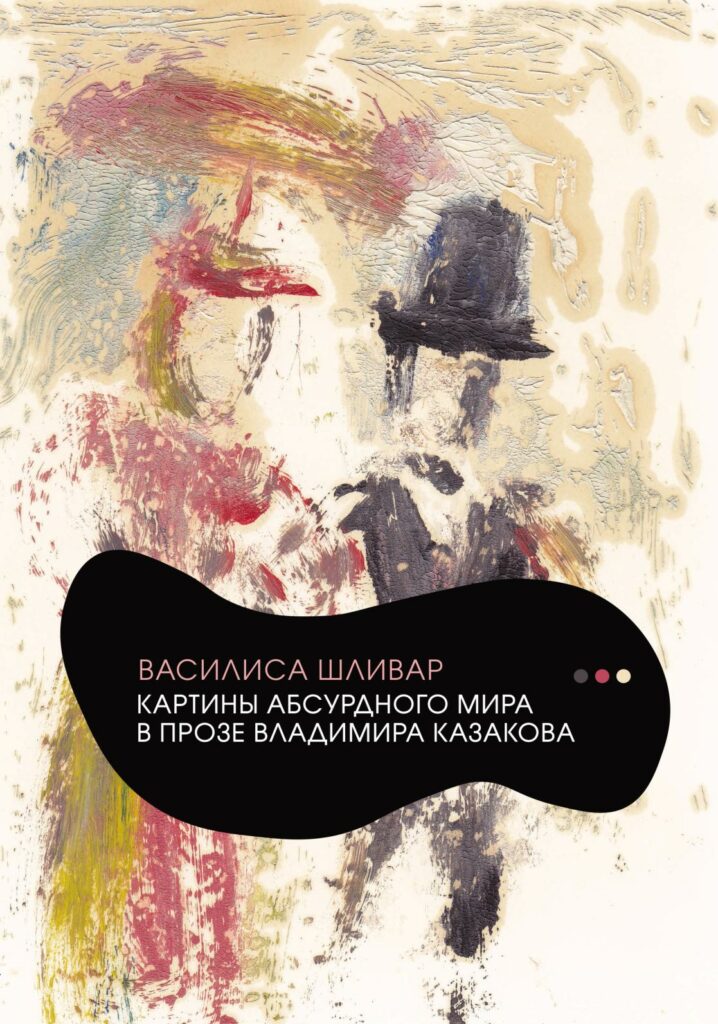 В монографии сербская исследовательница Василиса разбирает ведущие творческие темы («время», «пространство», «язык») Владимира Казакова с опорой на именитых предшественников, выводя из литературы философию и мировосприятие автора. Не столько научная, сколько эвристическая или поэтическая работа, по внутреннему содержанию больше напоминающая мгновение назад приведенный отрывок, но облеченная в эмоционально-умеренную филологическую форму, а затем кропотливо подкрепленная огромным количеством цитат из автора. Умом можно согласиться со значительной частью выводов Василисы, другая часть идей выглядит все же вольно приписанной автору. Но по крайней мере направления исследовательского взора раз за разом вызывают интерес и уважение, а общая реконструкция в таком виде дает возможность лучше почувствовать стоящего за текстами писателя (подумалось, что было бы великолепно почитать подобный разбор текстов Дмитрия Пименова).
В монографии сербская исследовательница Василиса разбирает ведущие творческие темы («время», «пространство», «язык») Владимира Казакова с опорой на именитых предшественников, выводя из литературы философию и мировосприятие автора. Не столько научная, сколько эвристическая или поэтическая работа, по внутреннему содержанию больше напоминающая мгновение назад приведенный отрывок, но облеченная в эмоционально-умеренную филологическую форму, а затем кропотливо подкрепленная огромным количеством цитат из автора. Умом можно согласиться со значительной частью выводов Василисы, другая часть идей выглядит все же вольно приписанной автору. Но по крайней мере направления исследовательского взора раз за разом вызывают интерес и уважение, а общая реконструкция в таком виде дает возможность лучше почувствовать стоящего за текстами писателя (подумалось, что было бы великолепно почитать подобный разбор текстов Дмитрия Пименова).
Читая тексты Владимира Казакова, ничего такого я сам не ощущаю. Из повторяющихся мотивов я не могу вывести философию автора, она мне не передается при чтении. Если герой говорит афоризм, оспаривающий линейность течения времени, — для меня это остается высказыванием героя, не проецирующимся никуда. Или вот Бертрам Мюллер в предисловии к «Случайному воину» утверждает:
Если Р. В. Дуганов пишет, что «мир Маяковского — героический, мир Блока — демонический, мир Хлебникова — божественный», то можно добавить: мир Казакова — незаживающий. Это вытекает из определения искусства, сформулированного Казаковым на основе одного своего прозаического текста: «Искусство — это незаживающий рай». Ассоциация со словом «рана» автором применяется сознательно. Цельный, замкнутый в себе мир существует, по словам Казакова, лишь в религии. Искусство же — и здесь он имеет в виду в первую очередь лишь свои собственные произведения — это область, в которой никогда не может быть достигнуто абсолютной гармонии, т. к. извечные раны противодействуют такому состоянию. Через эти раны все снова и снова извне протекает в этот мир непостижимая уму угроза. Именно эти раны мешают человеку воспринимать и объяснять мир как единое, гармоничное целое, которое, к примеру, включало бы в себя и феномен случайности. Творчество Казакова из-за своей противоречивости и замысловатости представляется читателю загадкой; оно тем самым указывает на загадочность мира, т. к. и мир у Казакова лишь частично поддается логическому объяснению.
Хотя идея для меня звучит крайне интересно, ничего подобного я сам у Казакова не вычитал и не могу понять, как мог бы. Мне нравилось читать тексты Казакова, но во многом я был закрыт для него. Мой подход был иным: по текстам видно, что у Казакова есть свое мировосприятие, но проекция на биографию позволяет взглянуть, как это мировосприятие функционально работает, т. е. воплощается в реальном мире. Если результат меня вдохновлял, то можно было поразмыслить, как он этого добился. Если результат меня не вдохновлял — тоже. Понятно, что если под философией человека понимать его теории, то теории могут не воплощаться в жизнь, но при передаче другим они оставляют потенциал для воплощения — поэтому в них есть самоценность. А все же в данном случае практическая реализация философии кажется мне более интересной и в большей степени перенимаемой. Конструирование эскапистского, дружелюбного и обаятельного мира для узкой группы лиц — вдохновивший меня эпизод из жизни Казакова, отраженный в его прозе (как построить такой мир?) ответ на этот вопрос книга Василисы Шливар скорее не даст, чем даст, хотя частично даст (надо чувствовать мир описанным образом, и все выйдет само). Но проецируемый на себя способ потенциального воспроизведения этого опыта — его проще найти и без понимания философии, вглядываясь в жизненный пример и размышляя. Вглядывание в человека — это процесс, имеющий бесконечный потенциал, в том числе положительный, и если творчество человека этому активно помогает, то этого уже достаточно. Вглядывание меняет вглядывающегося. В данном случае творчество Владимира Казакова мне активно помогало — вот что об этом писала Ирина Казакова в одном из предисловий:
Читая прозу Владимира Казакова, мы то и дело встречаемся с реальными документами, например письмами Н. И. Харджиева или Алексея Крученых, либо с пересказом некоторых устных рассказов того же Н. И. Харджиева, либо с цитатами из тех источников, которые занимали самого автора. Дело в том, что проза Казакова, на первый взгляд столь отстраненная, воздушная, «вещь в себе», все же по сути своей очень автобиографична, и автор включает в нее все те элементы действительности, которые были очень важными для его собственной внутренней жизни.
Но я остался плохим читателем потому, что у иных людей творчество могло бы вызвать куда более сильный литературный резонанс — потенциал для этого, несомненно, есть, а для меня Казаков оказался во многом закрыт. Возможность иного восприятия подтверждается примерами Елизаветы Мнацакановой и Василисы Шливар, — и я рад, что имел возможность сравнить свое и их.
Что же сказать в заключение? Жизнь прозы Казакова меня вдохновила, но драма жизни, отраженная и в прозе, меня тронула сильнее. Я ставил вопрос и хотел нащупать для себя варианты ответа. Это удалось с одними вариантами и не удалось с другими. Транслировать подробно тут не буду, хотя в статье и так переизбыток личного, но это слишком личное. Напишу кратко.
При жизни Владимир глубоко привязал к себе близких людей, но в социальном плане нуждался в заботе. После смерти Владимира он оставался связующим звеном для членов своей семьи, его мама и жена Ирина посвятили последующую жизнь изданию его творческих архивов, любовно относясь к его наследию. Явно воцерковление Владимира повлияло на всех членов семьи — брат Алексей впоследствии стал иеродиаконом (т. е. монахом и священником), церковь оставалась в центре жизни Ирины и третьего брата Марка (кстати, тоже художника), — я бы счел это весомым вариантом заботы о семье со стороны Владимира.
Творчество же постепенно продолжает выходить за круг семьи все шире. Театральные постановки, издания книг «Гилеей», журнальные публикации, монография — сказать точно нельзя, но в будущем интерес к творчеству Владимира Казакова может значительно расшириться. Тогда судьбой поэта окажется быть вспомненным.
