Джон Беньян и зефирный эксперимент
О литературных корнях одного психологического опыта
Как книга английского писателя XVII века вдохновила Александра Пушкина написать стихотворение, а ученого ХХ века — придумать эксперимент.
К числу самых знаменитых экспериментов в истории психологии принадлежит «зефирный эксперимент» Уолтера Мишеля, исследователя из Стэнфордского университета. Суть эксперимента состояла в тесте на «отложенное удовольствие». Перед трехлетним ребёнком клали на стол кусочек зефира и обещали, что если он потерпит пятнадцать минут и не съест зефир, то получит вторую порцию (или какое-то другое угощение). Как и следовало ожидать, дети вели себя по-разному: некоторые съедали зефир сразу, как только экспериментатор выходил из комнаты, но большинство пыталось соблюсти условия договора: дети изо всех сил старались не есть зефир, хотя многим это давалось нелегко. Опыты были начаты на рубеже 1960–1970-х годов, первая публикация Мишеля вышла в 1972-м, а затем он принялся наблюдать за дальнейшей судьбой участников эксперимента. По мнению Мишеля, дети, проявившие больше самоконтроля, впоследствии больше преуспели в жизни.
С тех пор выводы Мишеля неоднократно подвергались переоценке и критике со стороны психологов. Было показано, в частности, что поведение ребенка в эксперименте зависит от материального положения семьи и от того, обманывали ли его раньше взрослые. Однако до сих пор не было замечено, что «зефирный эксперимент» представляет собой скорее материал для литературоведения, нежели для психологии. Конструкция эксперимента Мишеля имеет ярко выраженную литературную основу, которая обнаруживается в романе, написанном за три столетия до проведения опыта.
Потом Толкователь взял Христианина за руку и ввел его в небольшую комнату, где на стульях сидело два ребенка. Старшего звали Нетерпение, младшего — Терпение. Нетерпение было очень беспокойным и недовольным, а Терпение сидело тихо. Христианин осведомился о причине недовольства старшего. Толкователь ответил, что их Воспитатель обещал им к началу будущего года драгоценные подарки, а Нетерпение хочет получить их немедленно, тогда как Терпение с радостью согласилось подождать... Тут кто-то вошел в комнату и вручил Нетерпению мешок с дорогими подарками. Но недолго был счастлив обладатель большого мешка. Уже через пару минут все было разбросано, разорвано и сломано. Терпение покинуло комнату с пустыми руками, но удалилось тихо, с ожиданием радости на челе.
— Растолкуйте мне, что все это значит? — попросил Христианин.
— Эти два мальчика символизируют два типа людей. Нетерпение — дитя мира, оно хочет все получить сразу же, еще в нынешнем году, то есть в этом мире: таковы люди земные. <...> Но Нетерпение очень скоро все растранжирило, и остались при нем одни лохмотья — таков будет удел всех подобных ему людей, когда настанет конец мира.
— Я вижу, что Терпение избрало лучшую долю, — заметил Христианин. — Ему будет даровано Царство Небесное, в то время как другого ожидает нищета и позор.
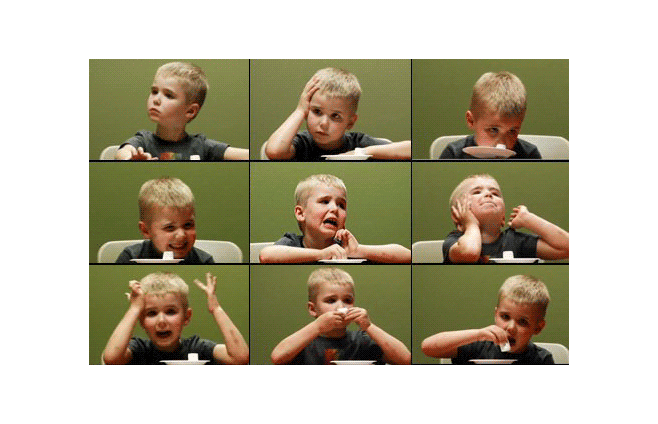 Это не что иное, как отрывок из романа Дж. Беньяна «Путь паломника» (1678), в России известного также под заглавиями «Путешествие пилигрима» и «Путешествие Христианина к блаженной вечности»; здесь он приведен в переводе XIX века, сделанном Ю. Д. Засецкой (кстати, дочерью Дениса Давыдова). Джон Беньян, диссидентствующий пуританский проповедник эпохи Реставрации, — одна из самых загадочных фигур в истории англоязычной литературы. О нем известно лишь то, что его неоднократно приговаривали к тюремному заключению за его радикальные протестантские проповеди: вернувшиеся на трон Стюарты испытывали неприязнь к пуританам, ассоциировавшимся с революцией, а Беньян, ко всему прочему, еще подростком успел поучаствовать в гражданской войне на стороне парламента. По профессии он был лудильщиком, и до сих пор остается совершенно неясным его круг чтения — за исключением, разумеется, Библии. Однако ему удалось на три столетия стать самым читаемым англоязычным писателем в мире. В промежутке с XVII по XIX век по количеству читателей Беньян обгонял Шекспира. Достаточно упомянуть, что к 1938 году «Путь паломника» выдержал 1 300 изданий.
Это не что иное, как отрывок из романа Дж. Беньяна «Путь паломника» (1678), в России известного также под заглавиями «Путешествие пилигрима» и «Путешествие Христианина к блаженной вечности»; здесь он приведен в переводе XIX века, сделанном Ю. Д. Засецкой (кстати, дочерью Дениса Давыдова). Джон Беньян, диссидентствующий пуританский проповедник эпохи Реставрации, — одна из самых загадочных фигур в истории англоязычной литературы. О нем известно лишь то, что его неоднократно приговаривали к тюремному заключению за его радикальные протестантские проповеди: вернувшиеся на трон Стюарты испытывали неприязнь к пуританам, ассоциировавшимся с революцией, а Беньян, ко всему прочему, еще подростком успел поучаствовать в гражданской войне на стороне парламента. По профессии он был лудильщиком, и до сих пор остается совершенно неясным его круг чтения — за исключением, разумеется, Библии. Однако ему удалось на три столетия стать самым читаемым англоязычным писателем в мире. В промежутке с XVII по XIX век по количеству читателей Беньян обгонял Шекспира. Достаточно упомянуть, что к 1938 году «Путь паломника» выдержал 1 300 изданий.
В нашей стране после 1917 года по понятным причинам эта книга оказалась основательно забыта, хотя к началу XX века существовало как минимум два русских перевода; роман «Иоанна Бюниана» был известен всей образованной элите Российской империи, и его первая глава легла в основу пушкинского стихотворения «Странник». Но в англофонной культуре, в особенности американской, роман Беньяна по значению едва ли не сравнялся с Библией. Русский читатель может вспомнить, например, сюжетообразующую роль «Пути паломника» в романе Луизы Олкотт «Маленькие женщины» (1868–1869), где героини примеряют аллегорические образы книги к собственным жизненным испытаниям. И хотя со второй половины XX века его популярность пошла на спад, он все еще остается источником архетипов и модельных ситуаций. Секрет успеха Беньяна в том, что он переводил христианскую догматику греха, покаяния и спасения на язык бытовых аналогий, интуитивно понятных рядовому читателю Нового времени, — таких, как в процитированном примере с терпеливым ребенком.
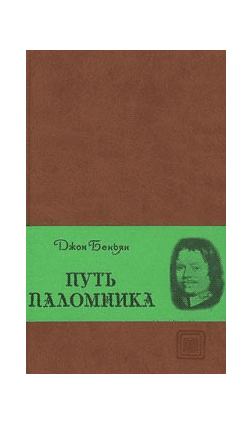 Довольно сложно не заметить невероятное сходство между аллегорией Беньяна и сценарием реального психологического эксперимента Мишеля. И у Беньяна, и в опыте Мишеля речь идет о тестировании детей на принцип отложенного удовольствия, причем способность к терпению наделяется абсолютной этической ценностью. Готовность пожертвовать сиюминутным удовольствием в пользу будущего вознаграждается не только вторым кусочком зефира, но и повышением социального статуса в отдаленном будущем, тогда как съевшим зефир уготовано будущее «лузера». Эксперимент делит испытуемых по их будущему — на спасенных и проклятых. Сознательно или бессознательно, эксперимент Мишеля смоделирован по литературному образцу «Пути паломника» — пуританской инструкции по спасению души.
Довольно сложно не заметить невероятное сходство между аллегорией Беньяна и сценарием реального психологического эксперимента Мишеля. И у Беньяна, и в опыте Мишеля речь идет о тестировании детей на принцип отложенного удовольствия, причем способность к терпению наделяется абсолютной этической ценностью. Готовность пожертвовать сиюминутным удовольствием в пользу будущего вознаграждается не только вторым кусочком зефира, но и повышением социального статуса в отдаленном будущем, тогда как съевшим зефир уготовано будущее «лузера». Эксперимент делит испытуемых по их будущему — на спасенных и проклятых. Сознательно или бессознательно, эксперимент Мишеля смоделирован по литературному образцу «Пути паломника» — пуританской инструкции по спасению души.
У Беньяна дети чисто аллегорические: ребенок со времен Средневековья персонифицирует душу, Аниму, а в XVII веке образ души-ребенка особенно широко распространяется в искусстве. Притчевый смысл сюжета с детьми не скрывается — сами участники диалога поясняют, что речь идет о выборе между земными благами и загробным спасением. Однако «зефирный эксперимент» весьма характерным для XX века образом трактует аллегорию буквально, осмысляя ее в рамках реальной психологии и социальных отношений. Пуританская аскеза трансформируется в «протестантскую этику» по Веберу — социальная успешность служит наградой за правильное поведение. В искусстве такой поворот, вообще говоря, не новость — достаточно вспомнить, что произошло с сюжетом Андерсена в диснеевском мультфильме «Русалочка». Куда более неожиданно то, что в данном случае мы имеем дело с наукой, причем даже не с теоретической, а экспериментальной.
Влияние научных экспериментов на литературу известно давно: так, сцена воспитания младенцев в «Дивном новом мире» Хаксли была вдохновлена бихевиористским опытом Дж. Б. Уотсона с «маленьким Альбертом», а сюжет «Собачьего сердца» Булгакова навеян медицинскими экспериментами русского эмигранта Сергея Воронова. Но обратный процесс — влияние литературы на науку, — кажется, еще не становился предметом пристального внимания. Пример «зефирного эксперимента» показывает, что литературные сюжеты — по крайней мере, значимые для культурного кода — могут диктовать саму постановку научного опыта. В тех областях науки, предметом которых является человек, существенно не только то, какие результаты получает исследователь, но и то, какие вопросы он ставит, и то, почему он задает именно этот вопрос. За повальным увлечением проблемой самоконтроля, на который стали тестировать обезьян и даже синиц, мало кому приходит в голову поинтересоваться, почему вообще самоконтроль оказался в центре внимания и почему исследователей так волнует его наличие. Анализ ценностных установок, заданных художественной литературой, может оказаться полезен историку науки.