Дух зовет танцевать своего убийцу
О книге Эдуарду Вивейруша де Кастру «Мрамор и мирт. Эссе об америндейской антропологии»
В издательстве Ad Marginem вышел сборник эссе Эдуарду Вивейруша де Кастру, автора «Каннибальских метафизик» и одного из наиболее обсуждаемых антропологов последних лет. По просьбе «Горького» с этим сборником ознакомился Роман Королёв и выяснил, почему индейцам тупинамба, прежде чем кого-то съесть, следовало удостовериться, желает ли сам он быть съеденным, что общего между Большим андронным коллайдером и шаманской погремушкой и, главное, чему нам всем совершенно необходимо поучиться у каннибальских племен Южной Америки.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Эдуарду Вивейруш де Кастру. Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с португальского Владимира Култыгина. Содержание
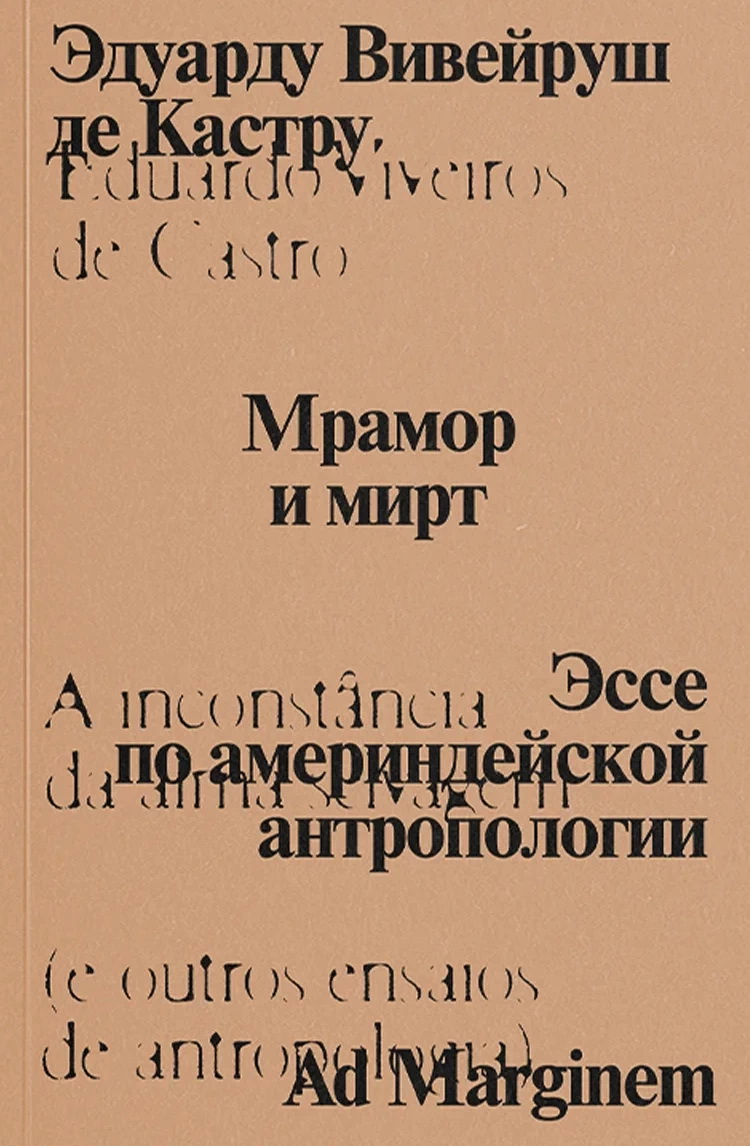
Фигура бразильского антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру, усмотревшего стихийную склонность к делезианству в культуре индигенных племен Амазонии, едва ли нуждается в специальном представлении для читателя. И как бы он ни казался избыточно философичным многим антропологам, а иным философам — перенасыщенным этнографической проблематикой, де Кастру поднимает важнейшие вопросы о том, как соотносится «цивилизованная» манера смотреть на мир с неокультуренным мышлением — и что она может из него вынести.
Вышедший недавно на русском языке сборник из восьми эссе «Мрамор и мирт» в оригинале был опубликован семью годами ранее «Каннибальских метафизик», принесших де Кастру всемирную известность. Первое эссе, «Очерк космологии народа явалапити», представляет собой краткий пересказ магистерской диссертации де Кастру, другие тексты писались и публиковались им на протяжении двадцати лет (при этом, представляя их на суд читателя в качестве единого сборника, автор не стал избегать возможности улучшить их и дополнить). Получая таким образом возможность ознакомиться с течением авторской мысли на протяжении столь длительного промежутка, читатель увидит, что пусть и с разных углов, но она неизменно обращалась к одним и тем же темам, или, если угодно, концептам — телу, душе, хищничеству, перспективе, обмену, культуре, природе и человеку, — и следовала в направлении проблематизации бинарного характера мышления, навязчиво приписываемого американским индейцам антропологией.
Те самые мрамор и мирт, что вынесены в заглавие книги, отсылают к разделению «дикарских» народов на два типажа, произведенному португальским иезуитом-миссионером XVII века Антониу Виейрой. Бывают народы, непоколебимые и упорные в своих заблуждениях, их приобщение к цивилизации дается тяжело, но если уж миссионеру удалось одержать в этой схватке победу, то плоды его усилий будут напоминать статую, высеченную из мрамора. Иные народы не противятся воле миссионера, они соглашаются со всем, чему их учат, — и возвращаются к прежнему образу жизни немедленно, стоит их оставить в покое. Христианизация этих людей куда меньше напоминает работу скульптора, чем труд садовника, выращивающего из мирта живую статую: стоит ему прекратить свои труды, и «вот уже то, что еще недавно было человеком, теперь не более чем буйнорастущий зеленый мирт».
Именно к наиболее характерным представителям последнего типа Виейру, как нетрудно догадаться, и относил бразильских индейцев, изучению которых посвятил себя де Кастру. С легкостью принимая для себя христианскую веру, индеец столь же непринужденно возвращается к «блевотине старинных обычаев» — то есть к отсутствию всякой централизованной власти, пьянству, многоженству, хождению голышом и людоедству.
Кстати говоря, от последнего из перечисленных пороков колонизаторам сравнительно успешно удавалось «излечить» индейцев тупинамба. Если со значительным трудом и под угрозами смертных казней, а иногда и со сравнительной легкостью индейцев удавалось убедить прекратить есть своих ближних (и даже более того, внутри самих каннибальских общин находились отдельные индивиды, которые человеческого мяса никогда не ели и при мысли об употреблении его в пищу испытывали отвращение), то их совершенно невозможно было уговорить этим ближним не мстить. В иных отношениях столь ветреная «индейская душа» демонстрировала в вопросах войны и мести заслуживающее лучшего применения постоянство, и у европейцев возникало чувство, что именно месть является тем центром, вокруг которого вращается вся туземная культура, и из него уже порождаются остальные индейские пороки.
Одержимость тупи местью, как пишет де Кастру, не являлась следствием патологической обидчивости или злобности (в повседневном общении эти индейцы, как правило, создавали впечатление чрезвычайно дружелюбных людей), но была тем институтом, который производил их коллективную память и скреплял социальное тело. Хорошо убивать врагов и хорошо быть врагом убитым, потому что подобная смерть предоставит твоей социальной группе повод отомстить за тебя — это будет «смерть со смыслом, смерть, производящая значения и людей». Хорошо есть людей — и хорошо самому быть съеденным, и именно поэтому плененные тупинамба, как с ужасом отмечали европейские колонизаторы, отказывались избегать своей участи и бежать на свободу.
Прежде чем непосредственно ассимилировать врага внутрь коллективного тела общины, его ассимилируют внутрь социума: наделяют его женой, пьют и едят с ним, иногда даже отправляются на войну вместе. «Тупинамба хотели быть уверены, что другой человек, которого они убьют и съедят, является в полной мере человеком, который понимает, что с ним происходит, и желает этого», — пишет де Кастру.
От социальной роли каннибализма и мести у тупинамба де Кастру переходит к рассмотрению сложных отношений между убийцей и его жертвой, как они выстраиваются в представлениях народа аравете. Человек, нанесший в схватке повреждение врагу, претерпевает по возвращении в деревню сложный процесс ритуального очищения, предполагающий символическую смерть, а также несколько дней сексуального воздержания, в случае если жертва была убита. В этот период душа мертвеца странствует по миру в поисках песен, чтобы сообщить их своему убийце во время сна. «Однажды ночью дух врага резко будит своего убийцу призывом: „Ну же, тиван, вставай, пойдем танцевать!“ Говорят, что враг гневается на своего убийцу, но вместе с тем чувствует себя неразрывно связанным с ним. Со временем этот гнев преображается в дружбу; жертва и убийца становятся „как апихи́-пихáн“», то есть как закадычные друзья, которые могут обмениваться сексуальными партнерами и вместе ходить на долгую охоту.
Тот, кто еще недавно был врагом, превращается сначала в тивана (потенциального свойственника), затем — в близкого друга, наконец — сращивается со своим убийцей.
Когда аравете умирают, на небесах они встречаются с Маи: богами-каннибалами, которые убивают их и пожирают, даруя после этого новую жизнь. Только убийца после смерти избегает такой участи. Он поднимается на небеса, слившись с духом своей жертвы в единое целое — существо, называемое Ирипаради, — и немедленно направляется к источнику бессмертия. Маи, обычно обращающиеся с мертвыми аравете как с врагами, не решаются ему воспрепятствовать. Более того, о некоторых легендарных убийцах прошлого рассказывают, что они не умирали вовсе, а поднялись на небеса непосредственно в бренном теле.
«Если боги-каннибалы одновременно являются и небесным эквивалентом аравете, и фигурой Врага, если они смотрят на нас глазами врага и видят в нас врагов себе, то в перспективе Ирапаради аравете активно видят себя как врагов. Эта способность смотреть на себя как на Другого — пожалуй, идеальный угол зрения на себя самого — является, вероятно, ключом к пониманию антропофагии у тупи-гуарани. В конце концов, если „каннибал — это всегда другой“ <...>, то что такое Ирапаради, если не Другой Других, враг богов, который по самой этой причине воплощает собой небесную точку зрения?» — рассуждает де Кастру.
Отношение аравете к врагам предельно далеки от зачастую свойственного «цивилизованному» сознанию желания предельно дегуманизировать противника, низведя его до состояния вещи. Напротив, враг здесь наделяется максимальной субъектностью — и за его счет происходит субъективизация воина. Убийца и жертва обмениваются точками зрения, чтобы в конце концов начать смотреть на мир одними глазами.
Здесь мы подходим к, вероятно, наиболее известной идее, продвигаемой де Кастру, — америндейскому перспективизму. В представлениях аборигенных народов Южной Америки, не человек произошел от животного и потому до сих пор сохраняет в себе животную природу, а все животные когда-то были людьми и до сих пор себя ими считают. Тапир, бултыхающийся в грязной луже, думает, что он посещает большой церемониальный дом; пекари, гонимые охотником, видят себя сражающимися воинами; ягуар, лакающий кровь из разорванного горла своей добычи, ощущает на языке вкус пива.
Можно сказать, что современная мультикультуралистская парадигма подразумевает, что существует огромное многообразие точек зрения на мир, каждая из которых обусловлена нашей субъективностью. Мир един, но каждый из нас на него смотрит по-разному (при этом одна из точек зрения, соответствующая позиции классического европейского рационализма, как правило, все равно имплицитно объявляется правильной). С другой стороны, америндейский перспективизм утверждает, что сам субъект создается точкой зрения (а не точка зрения выбирается субъектом), и эта точка зрения всегда по умолчанию является человеческой. Мы все смотрим на мир одинаково, воспринимая его через призму единой, человеческой, культуры, и все считаем людьми именно себя, однако вещи этого мира воспринимаются нами по-разному, поскольку принимаемый им вид зависит от нашего положения в пространстве, обусловленного нашей телесностью.
«Животные так же, как и мы, видят другие вещи, потому что их тела отличаются от наших. <…> Говоря о теле, я не имею в виду отличительные физиологические или характерные анатомические черты; я имею в виду манеры или стили поведения, представляющие собой габитус. Между формальной субъектностью душ и субстанциальной материальностью организмов пролегает центральная область — тело, кладезь аффектов и способностей, источник перспектив», — пишет де Кастру.
Тот, кто способен переключаться между разными перспективами, не боясь позабыть о собственной изначальной природе и, например, навсегда остаться пекари, называется шаманом. Для своих путешествий шаман облачается в одежды животных, однако они исполняют функцию не маски, позволяющей выдать себя за своего в чужеродном социуме, а своего рода скафандра или акваланга, дающего возможность приобрести качества чужой телесности и перемещаться в иной среде.
По сути, ближайшим аналогом шамана в современном мире является ученый, но такой своеобразный ученый, который предлагал бы включить в систему интерсубъективного мышления «растения, камни, молекулы и кварки». Классическая модель европейского рационализма предполагает, что для того, чтобы познать некий предмет, мы максимально его объективируем. Шаманы, напротив, если хотят, чтобы нечто было понято, наделяют его максимальной субъективностью, даже если этот предмет, согласно нашему убеждению, никакой агентностью в принципе обладать не может. Каждый подход, что называется, имеет свои плюсы и минусы, но современная цивилизация едва ли способна воспринять шаманское отношение к миру всерьез, вот и вытесняет его в сферу искусства, хотя шаманская погремушка, как настаивает де Кастру, — это скорее «ускоритель частиц», чем загрунтованный холст.
На протяжении восьми своих эссе де Кастру проводит читателя через проблематику лингвистического и космологического характера; знакомит его с техниками себя, практикуемыми явалапити взаперти во время подросткового отшельничества, и специфическими формами интерсубъективности, реализуемыми в ходе каннибальских практик; демонстрирует ему индейца, каким тот виделся католическому миссионеру, — и сложный треугольник отношений между человеческим, сверхъестественным и животным, в рамках которого индейцы воспринимали мир сами; выясняет, наконец, собственные отношения с Леви-Строссом и постмодернистской антропологией. Некоторые из фрагментов этой книги, будем честны, рискуют произвести на читателя, подходящего к ней без антропологического бэкграунда, впечатление удручающей сложности, в то время как другие потребуют знакомства скорее с полем современной философии. Однако, как бы то ни было, даже человеку, не сумевшему охватить «Мрамор и мирт» полностью, он все равно предоставит прекрасную возможность ознакомиться с идеями одного из наиболее оригинальных антропологов современности.
Если же для нас и существует какой-то практический нравственный урок, который в качестве заключения имело бы смысл вынести из онтологических идей юнжоамериканских индейцев, то он, вероятно, заключается в их отношении к ситуации, когда некто утрачивает человеческую перспективу и начинает видеть других людей животными. Такая ситуация, в их представлении, свидетельствует о том, что сам этот человек глубочайшим образом болен и находится на пути деградации в животное и утраты человеческой формы. Пораженного столь опасной духовной болезнью индивида в америндейском обществе неизбежно подвергли бы шаманскому лечению, в то время как в обществе можно абсолютно безнаказанно дегуманизировать своих ближних и, например, считать себя политиком.
Хуже людоедов амазонских, ей-богу.