Дракон появляется из ручейка
О книге Вадима Дамье «Ранний социализм и анархизм в Корее»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Вадим Дамье. Ранний социализм и анархизм в Корее. От эгалитарных утопий до сегодняшних дней. М.: ЛЕНАНД, 2025. Содержание
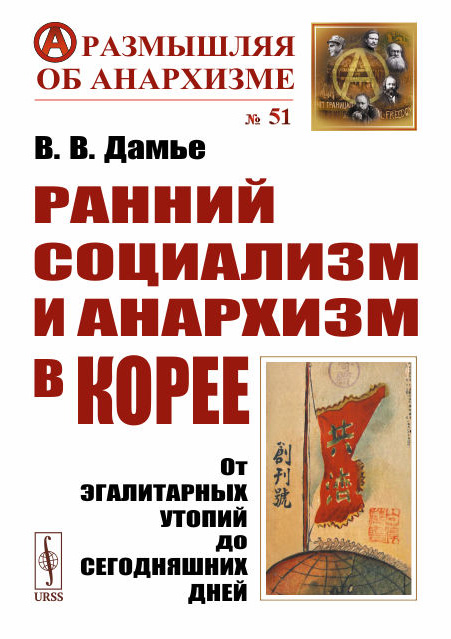
Историк Вадим Дамье продолжает серию исследований, посвященных истории анархизма в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Монография на корейскую тему описывает, однако, не только историю анархизма в чистом виде. По той причине, что анархические идеи довольно долгое время проникали в Корею с Запада в тесном соседстве и связи с идеями других левых течений. Маркс и Кропоткин, а иногда даже еще и Штирнер шли как бы в одном флаконе в изложениях и переводах местных популяризаторов. Отчасти это объяснялось новизной западных идей, от которых корейское общество долгое время ограждали власти: до 1876 года страна была закрыта для европейцев. И все же нельзя сказать, что идеалы социального равенства были для корейцев абсолютно незнакомы и чужды и лишь привнесены извне. Социализм, а в особенности анархические принципы взаимопомощи имели некоторые аналоги в традиционном общинном устройстве местных крестьянских хозяйств и даже в некоторых аспектах конфуцианства (представление о золотом веке «датун»). Религиозно-социальные поиски низов выливались в крестьянские восстания (особенно мощную волну вызвало в конце XIX века учение Тонхак, отождествлявшее людей с Небом и признававшее их равными между собой). На подобных основаниях иные местные историки-энтузиасты впоследствии утверждали, что социализм исконно присущ корейскому народу со времен древности, что является явной натяжкой и модернизацией.
Корейский социальный активизм и в дальнейшем нередко в той или иной степени искал опору в течениях различных религий, будь то буддизм или христианство, или бывал связан с религиозным творчеством, попытками религиозного синтеза.
С другой стороны, после захвата Кореи Японией в 1910 году анархические идеи в местном преломлении оказались нехарактерным для них образом в разнообразном, но постоянном взаимодействии с антиколониальными, подчас националистическими устремлениями.
Все эти специфические условия определяют широту авторской постановки вопроса — но широту все же отнюдь не безграничную. Автор изучает течения, так или иначе соединявшие ценности равенства и свободы. Если вы хотели побольше узнать об умопомрачительных идеях чучхе и о правлении семьи Ким, то вам точно не сюда. Историю КНДР Вадим Дамье не рассматривает и даже не комментирует. Правомерен ли такой подход? Думаю, что да. В фокусе авторского взгляда так или иначе — свободно развивающиеся левые идеи и порождаемые ими практики. Есть ли в КНДР те и другие? Наверное, есть — в тщательно скрытом виде. Может ли их не быть в целом регионе на протяжении полувека и более? Вот только узнаем мы о них много позже… А строгий научный подход фантазировать не позволяет. В целом же все, что мы знаем о КНДР, куда лучше укладывается в канву истории традиционного Востока с его чередой династий, нежели в историю левых движений.
Вместе с тем автор знакомит нас с весьма обширной панорамой событий на больших пространствах. Множество корейцев прожили большую часть жизни в положении мигрантов, устремляясь в другие страны в поисках заработка, а то и просто безопасности. Отдельные главы книги специально посвящены корейскому анархическому движению в Японии и в Китае, роли корейских партизан в Гражданской войне на российском Дальнем Востоке. Отдельный интересный сюжет связан с пребыванием корейских активистов в лесистой Маньчжурии, чья растительность служила хорошим укрытием для партизанских отрядов.
Цитаты из корейского фольклора, взятые эпиграфами к главам книги, приобщают читателя к своеобразному местному колориту, не давая потеряться в потоке имен, географических перемещений и драматических событий, касающихся и крестьянского, и рабочего, и студенческого движений.
Великая Российская революция 1917–1921 гг. первоначально была встречена социалистами и даже анархистами Кореи с огромным энтузиазмом и надеждой — как и угнетенными массами и левыми силами во всем мире, видевшими в происходящем реализацию собственных сокровенных устремлений. Это было обусловлено не только плохой информированностью, но и действительно важной ролью, которую на первом этапе революции играли либертарные движения. Корейские партизаны, в том числе анархически ориентированные, приняли активное участие в Гражданской войне на российском Дальнем Востоке на стороне красных — главным образом сражаясь против японских войск. Эта эпопея закончилась трагически. Закончив Гражданскую войну на «своей» территории, большевики уже не хотели заново накалять отношения с Японией, и корейские партизаны, мечтавшие об освобождении собственной родины, стали для них помехой. В 1921 году партизаны-корейцы были окружены красными и «разоружены», а в реальности — почти поголовно истреблены. Иные, не желая разоружаться, кончали с собой, бросаясь в реку.
Трагедия дальневосточных партизан ускорила окончательное размежевание в корейском левом движении между коммунистами, приверженцами Коминтерна, и анархистами. Это размежевание, несколько запоздалое, стало вскоре столь решительным, что доходило до кровавых стычек между обеими сторонами — сохранявшими, однако, связь с национально-освободительными чаяниями.
Время наибольшей активности и теоретической самостоятельности корейских анархистов пришлось, по-видимому, на 20–30-е годы ХХ века, которым посвящена значительная часть исследования. Именно в эту пору возникают организации с поэтичнейшими названиями, переводимыми автором как, например, «Лига настоящих друзей», «Общество черного ветра» (черного — по цвету анархистского флага) и подобные в том же роде. Однако Вадим Дамье внимательно прослеживает и последующую судьбу либертарных идей на полуострове, заканчивая свое изложение 2020-ми годами.
Автор также уделяет внимание воздействию анархических воззрений на культуру и литературу.
Много трудностей доставила авторскому изложению топонимика: в течение трети века (1910–1945) корейские географические названия заменялись колониальной администрацией на японские. В тексте автор приводит оба варианта и дает в конце их сводную таблицу.
Другое важное приложение к книге — краткие биографии нескольких десятков упомянутых в основном тексте корейских анархических активистов (более 30 страниц). Информационная плотность выводит биографии за рамки чисто справочных функций. Эту часть можно читать отдельно и подряд. Она завораживает своей пестротой и непредсказуемостью. Здесь перед нами появляются и крестьянин-партизан, и агроном, и поэт, и профессор философии. Кто-то закончил свой земной путь в японской тюрьме, кто-то не расстался с университетской кафедрой, а кто-то, предав забвению идеалы бурной молодости, оказался в судейском кресле…
Можно усмотреть в таком расположении материала своеобразное преломление многотысячелетнего опыта дальневосточной историографии: китайские исторические сочинения еще со времен Сыма Цяня включали как «основные записи» с общим изложением событий, так и раздел биографий. Подобное членение позволяет сочетать рассмотрение коллективной истории с вниманием к личности.
При изучении персоналий нельзя не заметить преимущественно мужской состав корейского анархического движения. Однако встречались в нем фигуры, порой бросавшие недолгий, но решительный вызов не только преобладанию активности мужчин, но и национальным ограничениям. Таковы были кореец Пак Ёль и его подруга, японка Канэко Фумико. Их совместная подпольная деятельность в Японии была весьма краткой (1922-1923). Особый трагический характер борьбе придавал их скептицизм в отношении способности человечества когда-нибудь отказаться от создания авторитетов — и все же Ёль и Фумико были готовы к бесконечному бунту ради индивидуального освобождения. В 1923 году они были арестованы и во время суда вступили в законный брак. Оба были приговорены к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Канэко Фумико отказалась от помилования и покончила с собой в тюрьме. Пак Ёль был освобожден лишь в 1945 году. Последующая судьба его стала на редкость парадоксальной. Сначала он присоединился к реформистскому крылу анархистов Южной Кореи (эволюционировавших тогда, по сути, к умеренному народническому социализму), затем, во время войны, был взят в плен северокорейскими войсками и… закончил свои дни в КНДР, где входил в Совет содействия мирному объединению Кореи.
Автор избегает пристрастий в отношении своих персонажей и описываемых событий. Касаясь десятилетий японского господства в Корее (ненавистного подавляющему большинству названных персонажей), он дистанцируется как от имперской, так и от антиимперской традиции. Дамье не скрывает некоторых положительных результатов деятельности японской администрации (опираясь при этом и на корейские свидетельства) — например, в сферах медицины и строительства. Как не скрывает и страшного обнищания корейских крестьян и рабочих в ту же пору, языковой дискриминации и насильственной ассимиляции, сопровождавшихся полицейскими репрессиями. Говоря о социальном эксперименте корейских анархистов в Маньчжурии, Вадим Дамье воздерживается от напрашивающихся, казалось бы, параллелей с Махновским движением и Арагонской коммуной 1936-1937 годов. Он констатирует, что корейские крестьянские объединения в Маньчжурии так и не избавились от национальной ограниченности и не пытались контактировать со своими непосредственными соседями — китайскими крестьянами. Именно в этом автор видит важнейшую причину неудачи движения.
К книге прилагается обширная библиография, включающая издания как на русском, так и на различных языках Запада и Востока, а также ссылки на архивные материалы.
Выходя за рамки чисто научных констатаций, хочется спросить: можно ли извлечь какие-то практические уроки из ветвистой и извилистой истории корейских либертариев? Главный отрицательный урок, кажется, заключается в губительности национального обособления. Но ведь история — в том числе и та, о которой рассказывает эта книга, — не закончилась. История продолжается. И она полна неожиданностей. Как гласит приводимая автором корейская пословица, «дракон появляется из ручейка».