Дорога не скажу куда
О книге Екатерины Златорунской «Осенняя охота»
Сборник рассказов Екатерины Златорунской на самом деле оказывается единой и цельной книгой со своей тщательно продуманной внутренней структурой, в которую встроены элементы метатекста, саамский календарь и сложная перекличка трех европейских культур, и ведет она читателя к распознанию тонкой грани между бытием и инобытием — так считает Ольга Балла-Гертман, с материалом которой «Горький» предлагает вам ознакомиться.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Екатерина Златорунская. Осенняя охота. М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. Содержание
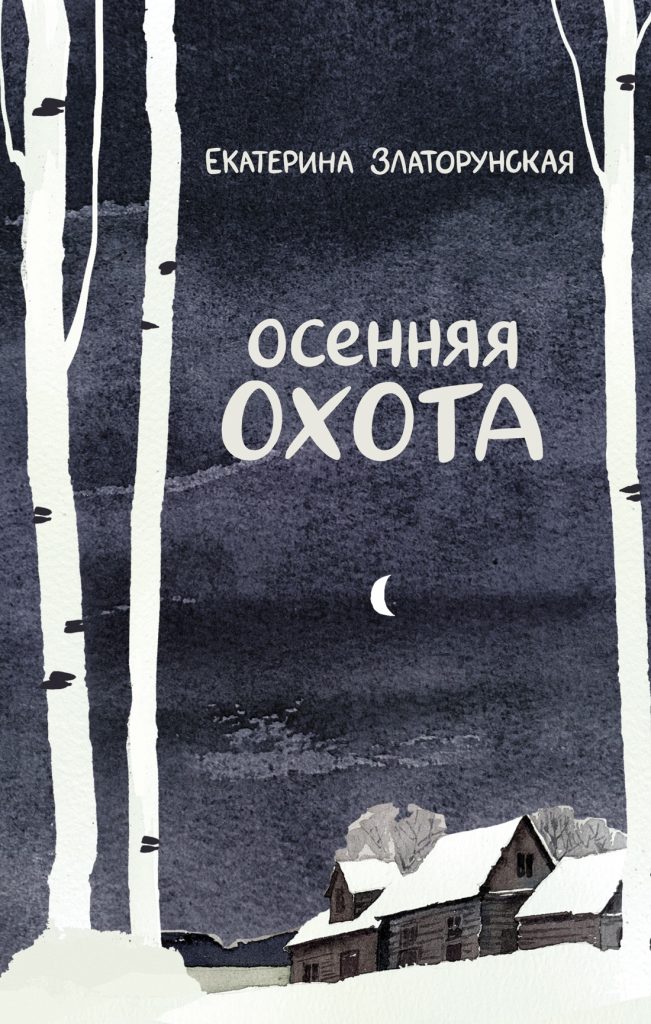 Предстающая поверхностному взгляду как сборник рассказов, «Осенняя охота» Екатерины Златорунской на самом деле — цельная книга с единым замыслом, с общей совокупностью интуиций (на то, что это так, указывают нам и некоторые знаки: героине самого первого рассказа попадается на глаза шведская книга с тем же названием — «Осенняя охота», — которое носит и второй рассказ, и действие его происходит в Швеции, и одно из главных его действующих лиц — человек из этой книги. Герои двух рассказов больше никогда не пересекутся, но этого достаточно. А героиня с именем Ингигерда появляется в двух текстах подряд). И по мере продвижения от начала книги к ее концу отчетливо заметна постепенная перемена фактуры представляемой реальности, а с нею и смещение внимания: с наблюдаемой и очевидной поверхности — к таинственной и страшной глубине. Начальные тексты книги производят убедительное впечатление добротной, тщательной, плотно-реалистичной бытописи, психологической беллетристики о типовых неурядицах в жизни некоторых обывателей: вот отношения Павла и Анастасии, супругов с двадцатилетним стажем, разламывает невозможность иметь детей, навязчивая, мучительная потребность в детях, которая таинственным образом оказывается сильнее всего, что держит этих людей вместе, — ну, бывает... Вот Астрид Линдманн — несмотря на любимую дочь, любящего мужа — никак не может ужиться в своей стокгольмской жизни, пока наконец не уходит из нее прочь... — в общем, и такое случается. Заключительные рассказы — чистое сновидчество. Онейрография.
Предстающая поверхностному взгляду как сборник рассказов, «Осенняя охота» Екатерины Златорунской на самом деле — цельная книга с единым замыслом, с общей совокупностью интуиций (на то, что это так, указывают нам и некоторые знаки: героине самого первого рассказа попадается на глаза шведская книга с тем же названием — «Осенняя охота», — которое носит и второй рассказ, и действие его происходит в Швеции, и одно из главных его действующих лиц — человек из этой книги. Герои двух рассказов больше никогда не пересекутся, но этого достаточно. А героиня с именем Ингигерда появляется в двух текстах подряд). И по мере продвижения от начала книги к ее концу отчетливо заметна постепенная перемена фактуры представляемой реальности, а с нею и смещение внимания: с наблюдаемой и очевидной поверхности — к таинственной и страшной глубине. Начальные тексты книги производят убедительное впечатление добротной, тщательной, плотно-реалистичной бытописи, психологической беллетристики о типовых неурядицах в жизни некоторых обывателей: вот отношения Павла и Анастасии, супругов с двадцатилетним стажем, разламывает невозможность иметь детей, навязчивая, мучительная потребность в детях, которая таинственным образом оказывается сильнее всего, что держит этих людей вместе, — ну, бывает... Вот Астрид Линдманн — несмотря на любимую дочь, любящего мужа — никак не может ужиться в своей стокгольмской жизни, пока наконец не уходит из нее прочь... — в общем, и такое случается. Заключительные рассказы — чистое сновидчество. Онейрография.
Герои Златорунской (предпочитаемый ею, наиболее интересный ей тип героев) — люди, необъяснимо томимые существованием, мающиеся доставшимися им жизненными обстоятельствами и, кажется, жизнью как таковой. Отчасти это улавливает даже такой по определению неточный жанр, как аннотация к книге, кем бы она ни писалась, хоть самим автором, — авторам не всегда заметно, что они делают, они внутри процесса: в основу «Осенней охоты», сказано там, «легла <...> метафора о том, что жизнь — это путешествие души, мысли, сознания. Поэтому рассказы, которые вы найдете под обложкой, прежде всего истории о путешествиях». Ну да, конечно, — дорога, дорога... лишь бы, как сказано у другого автора (у Кафки), «прочь отсюда». Маются обстоятельствами жизни герои, строго говоря, без поддающихся прослеживанию и внятной формулировке причин, — сами по себе эти обстоятельства, по крайней мере на внешний незаинтересованный взгляд, — вполне приемлемые. Но нет: героев книги вечно, необъяснимо (в том числе для них самих), упорно тянет за пределы данных обстоятельств, а, например, Астрид из рассказа «Осенняя охота», повинуясь этой неизъяснимой тяге, вообще уходит прямиком в смерть. (В обстоятельствах ли дело как таковых?) Уточняет в этом отношении кое-что и многознающая аннотация: «С каждым следующим рассказом, — верно подмечает она, — Екатерина Златорунская размывает грани яви, все дальше уводя читателя в мир эфемерного, иллюзорного, несбыточного». — Но это не романтическая тяга ввысь, к некоторым идеалам, — эта тяга не вертикальна. Да и так ли уж иллюзорно и несбыточно то, к чему она влечет?
Так на что же охотятся все эти охотники? И они ли одни, собственно, тут охотятся?
Не будем торопиться с ответом.
Вообще (читатель, возможно, не сразу это заметит, хотя знаки предъявлены ему буквально с первой страницы), сквозной принцип всех текстов, собранных в эту книгу, — взаимоналожение (и, значит, неминуемое взаимодействие) разных реальностей. И вправду, многие ли обратят внимание на то, что рассказам как таковым в книге предпослано «Вступление. Традиционное ежегодное письмо издателя»? Это вступление-письмо, никаким издателем на самом деле не подписанное, представляет книгу как «альманах, выпускаемый» [некоторым неназванным издательством] «раз в год в канун Рождества» и лишь в этом году получивший «название „Осенняя охота“ по одному из основных произведений».
Ну, вполне возможно, читатель и впрямь подумает, что составившие книгу тексты были сначала опубликованы в каком-то неведомом ему доселе альманахе, а потом изданы книгой, да и забудет об этом, — разве что пока не дочитает до конца, до «Библиографической справки». Никакой библиографии там опять же нет, зато упоминается «редактор альманаха» «Аннѣ Падерин». В первый раз эта таинственная персона появляется во вступлении: «В этом году ответственным редактором альманаха была выбрана Анне Падерин (по происхождению саамка). Она отобрала тексты, в которых герои отправляются в путешествие, имеющее для них судьбоносное значение, и расположила их согласно саамским временам года, тем более что некоторые произведения опосредованно связаны с саамскими территориями и символами». Забыли? Вот тут нам напомнят: Падерин — «филолог, краевед, преподаватель саамского языка в МГЛУ. Живет в с. Луявврь [кстати, реальный саамский топоним; по-русски это Ловозеро в Мурманской области. — О.Б.-Г.]. Не замужем. В свободное время увлекается охотой и рыбной ловлей», представлен и экфрасис ее не явленной нам фотографии: «Анна — светловолосая женщина тридцати лет, сфотографирована на крыльце своего дома. На ней рубашка, жилет и коричневые брюки. Она обнимает собаку — белого лабрадора по кличке Мун („Мороз“)». Мило, уютно, как будто необязательно.
Ничуть не бывало. Рамка, обозначенная «Вступлением» и «Библиографической справкой», в которую вставлены рассказы, — не просто прозрачная мистификация (хотя элементы таковой тут присутствуют: сказано, например, что рассказы восстановлены из погибшего в результате «череды катаклизмов» архива, написаны неизвестно когда и принадлежат неведомым авторам: «Мы не располагаем точными сведениями о времени их создания, чаще всего у нас нет информации об их авторах...») и вообще, чувствуется, больше, чем игра, — хотя, конечно, и это тоже. Она — онтологический ориентир. Или, если угодно, такая пластинка с определенными оптическими характеристиками, через которую нам предложено смотреть на все содержание книги. И да, здесь нужен был закадровый персонаж с остраняющим — саамским взглядом. Не совсем здешний, хотя место ее обитания и нетрудно найти на карте.
(Таким образом, у повествования тут два уровня, и первый, обозначенный «Вступлением» и «Библиографической справкой», для полноты понимания необходимо учитывать.)
Ключи тут буквально вдавливаются в расслабленную от невнимательности читательскую ладонь — успевай только удерживать.
В книге четыре части, и каждая, помимо понятных нам названий, имеет еще и саамское: часть первая, «месяц охоты», — «М ē х х ц — м ā н н»; часть вторая, «месяц пурги», — «Пō р р к — м ā н н», часть третья, «лебединый месяц», — «Н ю х х ч — м ā н н», часть четвертая, «месяц первого олененка», — «В у с с ь — м ā н н». Речь идет, понятно, не столько о месяцах, сколько о временах года (в каждом по три рассказа — как раз по три месяца). Саамский год, как видим, начинается осенью — и движется к лету.
Казалось бы, зачем? Что проясняют эти экзотичные для здешнего глаза слова с их языческой темнотой, что они прибавляют к пониманию происходящего? (А происходит здесь все, что происходит, с людьми христианской (включая русскую) культуры — с единственным исключением: рассказ-верлибр «Nimi uusi russitah (Новым именем окрестят)» — скандинавская языческая история.)
А вот что: эти названия — уже самим своим чуждым нам звучанием — вносят тревогу. Выбивают нас из круга обжитых очевидностей. И если что и проясняют, то разве то, что есть нечто непроясняемое и оно рядом.
Это, кажется, еще один из аспектов здешнего взаимоналожения (двух из множества) реальностей: большой, как бы общепонятной европейской и таинственной, явно закрытой от внешнего наблюдателя саамской. И указание — уже на уровне названий — на то, что происходящее (хотя бы в этой книге) имеет отношение к некоторым глубоким и древним основаниям жизни: по всей вероятности, еще доцивилизационным, — жизни не только человеческой, не в первую очередь человеческой, но объединяющей человека со всем живым (и даже неживым — раз одна из здешних частей отдана «пурге»).
Сама выстроенная таким образом структура объясняет, на самом деле, больше, чем сюжеты отдельных рассказов, — хотя, конечно, в заданном направлении работает каждый из них.
(К слову сказать — надо же это где-то сказать, совсем оставить без внимания нельзя, — в книге накладываются друг на друга и друг сквозь друга просвечивают еще и вот какие две реальности: русская и шведская. Ой нет, даже три: русская, шведская и греческая. Все три сходятся не в каждом из рассказов. Чаще появляется одна из них: русская («Пристегните ремни», «Охотник до ловчих птиц»; как ни удивительно, в рассказе «Ингигерда» героиня русская, и фамилия ее Яблокова) или шведская («Осенняя охота»; возможно — «Месяц январь»); в единственном на всю книгу верлибре с финско(?) -русским названием «Nimi uusi russitah (Новым именем окрестят)» реальность явно скандинавская. Иногда соединяются какие-нибудь две — как в последнем рассказе книги (бесспорно русские герои оказываются в вечности с несомненно греческими чертами), а иногда одна из реальностей, помещенная в другую, содержит в себе элементы третьей: так, в первом рассказе, где двое русских маются своей бездетностью в Греции, нет-нет да и вспыхнут шведские детали: то книжка на шведском языке, то вдруг окажется, что героиня знает шведский, вообще «наполовину шведка» и мечтает: «Она уедет на север Швеции, поседеет до белизны шведок»... и обрывается рассказ на том, что героиня в полудреме видит, как «детектив Йохан» — из той самой шведской книжки — «проснулся в шесть утра и выглянул в окно». На развитии событий все эти шведские вкрапления, кстати, никак не сказываются (разве что — во внезапном сновидческом появлении в самом конце первого рассказа детектива Йохана происходит самый первый сбой в наблюдаемой нами реальности, первый сигнал о том, чему еще предстоит развернуться во всю мощь. Но связано ли это с тем, что он швед?). Греческая реальность — сама по себе, отдельно от остальных — не появляется никогда. Объяснений этому ни найти, ни придумать не удалось, — разве что — персональная авторская архетипика, лично, эмоционально значимые для автора культурные, символические пространства.)
Вот направление движения общего метасюжета книги: сомнительная реальность происходящего нарастает, нарастает в своей сомнительности, — пока, наконец, в четвертой части (названной нежным именем первого олененка!) повествование — долго, долго копившее в себе, наращивавшее разрушительный потенциал (разрушительный по отношению к чему? ну, к предъявленной в самом начале книги картине мира, например) — не срывается в откровенную антиутопию. В самом начале четвертой части, в рассказе «Правила игры в гольф в военное время» (это не совсем о гольфе — да и совсем не о нем — и правил там никаких нет, и военное время остается целиком за кадром, а вообще-то это о потере памяти, притом происходящей неоднократно) реальность уже активно расслаивается — на видимое и кажущееся, выходит из-под контроля. Начинают исчезать приметы времени, к которому относятся события, — если в первом рассказе этой части еще понятно, что все это — много позже 1982 года (героиня находит у себя в кармане стеклянный мячик для гольфа с гравировкой «1982, Стокгольм» — ой, опять Швеция! — и относится этот предмет, по всей видимости, к далекому детству ее мужа), то уже во втором, как будто вполне насыщенном признаками цивилизации (там, например, существуют компьютеры, а также электронное чипирование заключенных — это уже антиутопическое пространство) повествование покидает берега известной нам истории. В заключительном рассказе, «Ζωσιμος», героиня, спасаясь от совсем уж антиутопической реальности («Я не знала, из какого района отходит поезд. Каждый раз это было засекреченное место. Поезда отправлялись раз в год. Говорили, что никто из уехавших не добрался до места. Муж показывал, чем кончилось дело с отъезжавшими. Я видела, как их тела грызли лисы. Видела, как грызли лис»), покидает, похоже, и само земное бытие — и оказывается в вечности.
Привычная-понятная реальность, в самом первом рассказе книги (с несколько провокативным названием «А почему не надо бояться?») вполне целенькая, трещит уже по всем швам. Логика происходящего становится окончательно сновидческой («Я выдохнула девочкам в рот и ноздри, и они превратились в ключики. Один большой — Марина, и один маленький — двусторонний, с двумя желобками — Катя-Таня»).
Все, что делается в предыдущих трех частях, этот срыв старательно подготавливает.
Вот теперь попробуем сделать из наших наблюдений некоторые выводы.
Златорунская в этой книге вглядывается не в жизнь и не в смерть как таковые, но в тонкую, прозрачную и проницаемую пленку, которая их разделяет (и соединяет). И, пожалуй, один из основных смыслов книги как цельного высказывания — (не отношения между какими-то людьми, не устройство, скажем, общественных отношений, а) ненадежность реальности — того, что мы за таковую принимаем ради собственного душевного равновесия. (А тем самым — ненадежность и обретаемого таким образом душевного равновесия.) Причем, по мысли автора, эта ненадежность и иллюзорность земного и зримого скорее уж утешительна. Вот какими словами приветствует муж спасшуюся из нашего здешнего морока героиню, встречая ее после полного таинственных приключений и превращений пути в вечности:
«— Я знал, что с вами все будет хорошо, ведь ты загадала — всегда вместе, а я продолжил — жить здесь вечно. Он улыбался. — Что же ты плачешь? Ведь все сбылось. Все сбылось».
Вот, наверное, поэтому (по мысли автора) и бояться не надо... На вопрос, заданный первым рассказом книги, самим своим названием отвечает последний ее рассказ: «Ζωσιμος» по-гречески — живой.
Скажу нечто, может быть, безответственное в своей дерзости: сквозь героев Златорунской, в общем-то даже не по их выбору и не совсем под их контролем (а потому что не вполне ими и осознаваемо), в нашу с вами обжитую реальность просачивается — ну если и не небытие, то — скажем осторожнее — инобытие, притом неизвестной природы.
Туда именно и влекут каждого из них, в конечном счете, дороги, туда они и ведут, — в пространства и времена, для которых нет названия. Дорога не скажу куда, как заметил(а) по сопоставимому поводу другой автор.
Уж не охотится ли на героев книги само инобытие?
И чего тут точно не стоит делать, так это приходить к выводу о том, что в книге смерть (к которой в общем-то все в конце концов и приходит — знаем мы, за порогом чего поджидает нас сладко-сновидчески обещанная вечность...) торжествует над жизнью и на том все и прекращается. Саамское, языческое время — циклично.
И тут опять же о многом говорит сама структура книги — с этой ее последовательностью пусть темных для нашего слуха и глаза, но ведь осмысленных же названий. Нетрудно заметить, что последовательность их ведет в противоположном направлении: от смерти к жизни. От осенней охоты, в которой охотники неминуемо забирают чьи-то жизни, к рождению первого олененка, — к появлению новых жизней, — которые уж конечно будут забраны следующей «осенней охотой», чтобы все повторилось снова.