Демон аналогии: о «Сне Бодлера» Роберто Калассо
Новый взгляд на проклятого классика от Роберто Калассо
Если переход в разряд классиков для поэта означает превращение в автора, представляющего интерес только для литературоведов и навевающего скуку на всех остальных, то Шарлю Бодлеру такая участь не грозит. Фигура поэта не перестает волновать историков, философов и писателей, а литература, посвященная ему, давно стала отдельным интеллектуальным феноменом — вспомним хотя бы работы Поля Валери, Жоржа Батая или Вальтера Беньямина. Роберто Калассо, впрочем, такая конкуренция не смутила. «Сон Бодлера» — его попытка нового прочтения творчества поэта. Константин Митрошенков рассказывает, почему эта книга более чем интересна, но читать ее стоит с осторожностью.
Роберто Калассо. Сон Бодлера. М.: Ад Маргинем, 2020. Перевод А. Юсуповой
Калассо начинает свою книгу с неожиданного, на первый взгляд, сравнения Бодлера с Дидро. Казалось бы, куда дальше — философ-энциклопедист, прежде всего ассоциирующийся с «проектом Просвещения», и поэт, которого часто награждают ярлыком «основоположника декаданса» и «предтечи модернизма». Но Калассо вспоминает случай, связанный с первой публикацией Бодлера под собственным именем. После того как Бодлер выпустил короткую брошюру, посвященную Салону 1845 года (ежегодной выставке французского искусства), он написал знакомому критику с просьбой «порадовать» его и упомянуть в своей рецензии Дидро и его «Салоны». Это замечание позволяет Калассо протянуть нить от Дидро к Бодлеру, указав на сходство их мыслительной привычки: «Блуждая среди пейзажей и портретов, критик использует их как трамплин в искусстве перевоплощения, коему предается с тем же азартом, с каким после сбрасывает маску». Так бродил по Салонам Дидро, стремительно переходя от одного полотна к другому, не успевая осмыслить все совершенные открытия. Так спустя почти столетие Бодлер будет бродить по галереям, кафе, публичным домам и улицам.
«Сон Бодлера», говоря несколько упрощенно, представляет собой серию зарисовок о жизни и творчестве поэтов, художников, писателей эпохи, примерно сопоставимой со временем существования Второй империи (1852–1870). Одни образы выписаны Калассо довольно подробно — Бодлера, Гиса, Энгра, Рембо или Сент-Бёва; другие лишь набросаны — Флобера, Галеви, Малларме, Лафарга. Во второстепенных ролях появляются и те, кто связан с искусством лишь косвенно, — например, извечные мучители Бодлера, отчим генерал Опик и нотариус Ансель, регулярно дававший поэту взаймы. Эта пестрая компания больше всего похожа на экспозицию тех самых салонов из первой главы книги — «упорядоченный строй изображений, представляющих собой самые разные ипостаси жизни». Калассо скользит по ним, подхватывая сюжеты и вскорости отбрасывая, прельстившись чем-то более интересным. Он руководствуется тем же правилом, что и Дидро, ценивший развитие мысли выше, чем ее промежуточные победы.
В первой главе, рассуждая о методе Бодлера, Калассо выделяет мышление посредством аналогий как одну из важнейших его составляющих: «Нет аналогии, нет и мысли, трактовки, а значит, возможности раскрывать „первозданный мрак вещей”». Это, однако, еще один случай, когда то, что Калассо говорит о других, в равной, а то и большей степени оказывается применимым и к нему самому. По этой причине фигура Бодлера — формально главного персонажа книги — приобретает в его тексте специфическое значение. Калассо, конечно, интересна причудливая судьба Бодлера, но служить культу «проклятого поэта» он явно не собирается — неслучайно подробности его личной и бытовой неустроенности он подает буднично и отстраненно, словно желая «заземлить» того, кто давно уже стал достоянием легенд. Бодлер важен Калассо прежде всего с функциональной точки зрения: он оказывается тем импульсом, что запускает цепочку аналогий, составляющую скелет книги.
Однозначно определить, что именно Калассо понимает под аналогией, сложно. В одном месте он замечает: «Аналогия и созвучие для Бодлера являются равнозначными понятиями». Бодлер, позаимствовавший из «Истории живописи в Италии» целые пассажи, руководствуясь не ленью, а ощущением родства, «созвучен» написавшему их Стендалю. Но то же можно сказать и о Достоевском с Рембо, «не ведавших о существовании друг друга, этих двух голосах, которым выпало озвучивать безумье». Калассо исходит из представления об известной степени автономности произведений и заключенных в них идей, перемещающихся от одного автора к другому и в полной мере реализующих заложенный в себе потенциал лишь слившись в общем голосе.
Приведу пример. Размышляя о появлении понятия декаданса, Калассо выстраивает следующую схему интеллектуальной преемственности. Ницше встретил слово «декаданс» в эссе французского писателя Поля Бурже о Бодлере, включил его в собственный словарь, но использовал главным образом в отношении Вагнера, которого, по мнению философа, лучше всего понимал именно Бодлер. Калассо торжествует. Цепь — в другом месте он называет ее «золотой» — замкнулась.
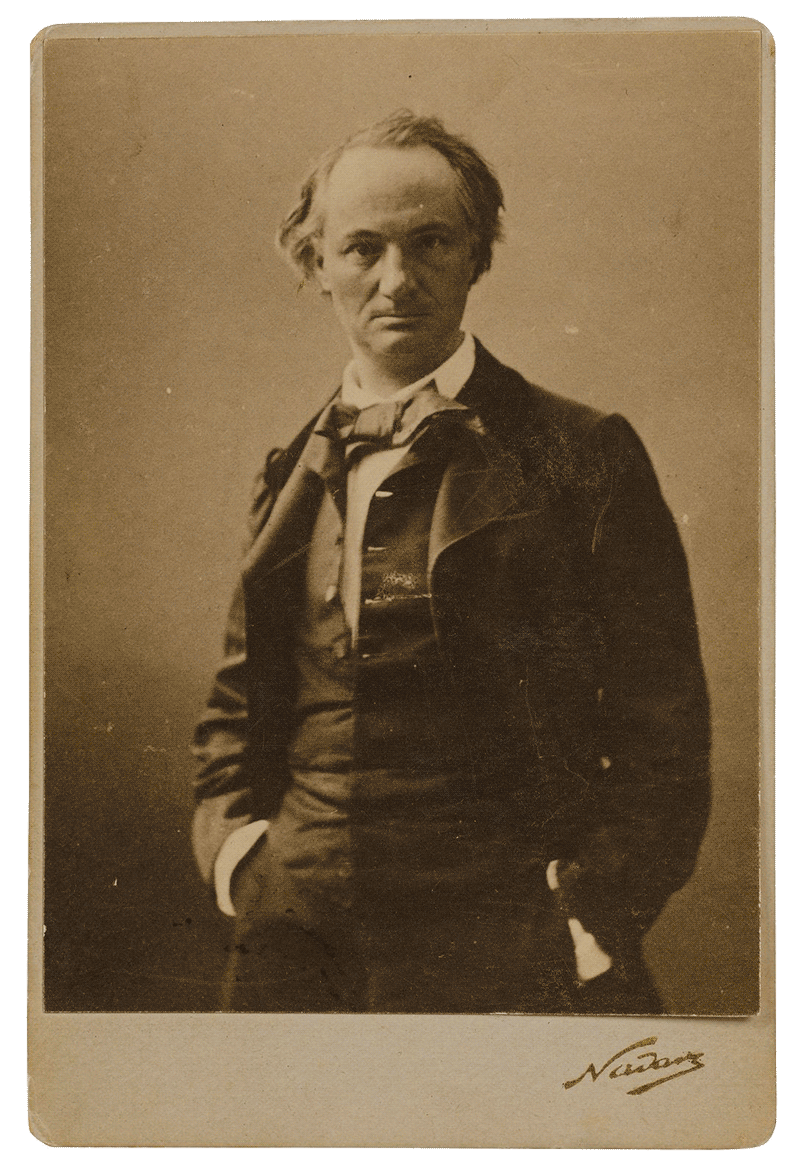 Шарль Бодлер. Фотография Надара. 1855 год
Шарль Бодлер. Фотография Надара. 1855 годИногда, правда, тяга к аналогиям приводит Калассо к сопоставлениям, которые иначе как курьезными назвать сложно. Достается почему-то главным образом Сент-Бёву. Сначала Калассо проводит параллель между претензиями критика в адрес Флобера и Стендаля по поводу отсутствия в их произведениях «добрых чувств» и требованием «положительного героя» в советской литературе. А после автор и вовсе сравнивает несчастного Сент-Бёва со Ждановым из-за записки, адресованной Наполеону III, в которой критик призывал установить «нравственный ориентир для литературы, указав, какие темы допустимо затрагивать». Но все же было бы странно требовать большей строгости мысли от Калассо, намеренно избравшего для разговора о Бодлере формат развернутого эссе, а не академического исследования или классической интеллектуальной биографии. Прежде всего он стремится рассказать собственную историю, реконструкция истинных помыслов героев интересует его лишь в той степени, в которой она способна помочь в достижении этой цели.
В начале и конце книги Калассо появляется один и тот же образ — вала Бодлера: «Возникнув до появления его самого, он катит вперед, не замечая препятствий. Шатобриан, Стендаль, Энгр, Делакруа, Сент-Бёв, Ницше, Флобер, Мане, Дега, Рембо, Лотреамон, Малларме, Лафорг, Пруст и другие — вершины и впадины этого могучего вала». Этот образ можно трактовать как метафору прослеживаемых Калассо интеллектуальных связей, в центре которых находится фигура Бодлера. Общий голос — еще одно название для этого явления. Но о чем он говорит?
Композиционно центральное место в книге Калассо занимает IV глава, в которой автор приводит сон Бодлера о посещении публичного дома и свою трактовку этого эпизода. Поэт отправляется в бордель, чтобы вручить его хозяйке собственную книгу. Но, прибыв на место, Бодлер замечает, насколько непристоен его внешний вид: мало того, что ширинка у него расстегнута и из нее свисает член, так еще и босыми ногами он угодил прямиком в лужу. Поэт решает осмотреть публичный дом и обнаруживает, что стены его украшены множеством картин, рисунков и фотографий, далеко не все из которых были «непристойного содержания». Некоторые из них — фотографии птиц в разрезе и изображения странных существ, рожденных работницами борделя, — и вовсе больше напоминали экспонаты музея медицины. Но тут Бодлера осеняет: «В мире есть только одна газета, „Сьекль”, достаточно глупая для того, чтобы открыть дом терпимости и учредить в нем дом терпимости». Это осознание приводит его к неожиданному на первый взгляд заключению: «Современные глупость и невежество таинственным образом приносят свою пользу, и нередко то, что было сделано во зло, […] оборачивается благом». Поэт продолжает осмотр и видит живого монстра с длинным змееподобным «аппендиксом», растущим из головы. Он расположился на пьедестале посреди борделя. Бодлер беседует с монстром и тот жалуется на свою незавидную участь. Он родился в доме терпимости (видимо, от одной из девушек) и «теперь обязан сидеть в этом зале […] на потребу любопытной публике». Дополнительные неудобства причиняет ему уродливый отросток, мешающий принимать пищу и заставляющий чувствовать себя очень неуклюжим рядом с «рослыми и здоровыми девицами».
Калассо предлагает рассматривать бордель-музей как метафору современности (модерности). Вера в прогресс и стремление к распространению знаний, олицетворением которых выступает газета «Сьекль» (в переводе с французского — век), в представлении Бодлера оказываются сопряжены с глупостью, но глупость эта парадоксальным образом оборачивается благом. Упоминание газеты здесь неслучайно. «Сьекль», основанная в 1836 году, стала первым ежедневным изданием с низкой ценой и большим тиражом, ориентированным на широкие слои населения. По мнению Калассо, во сне проявляется неоднозначное — можно даже сказать, диалектическое, хотя сам автор не использует этого слова — отношение поэта к современности, которое в полной мере развернулось в сборнике «Цветы зла», вышедшем вскоре после этого.
Еще один важный момент в рассказе Бодлера — это появление монстра со странным отростком. Калассо трактует его как встречу поэта с самим собой. Бодлер, так же как и монстр, вынужден заниматься своего рода эксгибиционизмом, который неизбежно предполагает любое художественное творчество. Объединяет их и чувство неловкости и одиночества, которое оба испытывают при соприкосновении с миром: Бодлер, считающий, что его внешний вид слишком непристоен даже для борделя, оказывается двойником монстра, испытывающего стеснение в обществе проституток.
В 1863 году Бодлер написал эссе «Поэт современной жизни», где на примере творчества своего приятеля Константена Гиса попытался осмыслить изменение положения художника в условиях того, что сам он назвал «современностью». Среди основных черт искусства современности Бодлер выделял обращение к повседневным сюжетам, отказ от «культа природы» и осознание историчности любого произведения и изменчивости как главного свойства окружающего художника мира. Калассо отталкивается от этой характеристики и через ее призму рассматривает творчество знаменитых современников поэта: отказавшихся от пленэра художников, писателей, делающих героями своих произведений ничем не примечательных городских жителей, и поэтов, источником вдохновения для которых служит посещения злачных мест. Иначе говоря, стремится воспроизвести общий голос эпохи. Это, однако, не означает, что Калассо намерен нивелировать противоречия в восприятии его героями «современности». Сент-Бёв мог предостерегать об «опасности „литературной богемы”», а Готье — называть стремление к массовому воспроизводству изображений «грехом нашего поколения», но все ощущали «едва уловимый аромат настоящего времени», в случае с которым неприятие и восхищение могли быть неразрывно связаны. Общий голос, как его понимает Калассо, безусловно, полифоничен.
Есть и еще один мотив, в скрытом виде присутствующий в «Поэте современного мира» Бодлера и четко проговариваемый Калассо, — это мотив искусства как торговли собой. Бодлер, тонко чувствующий поэт, оказывается расчетливым дельцом, когда дело доходит до публикации произведений; Гис в спешке рассылает по редакциям газет свои рисунки, совершенно не заботясь об их судьбе, а Рембо в письме родным заявляет о желании «экспонировать самого себя» на Всемирной выставке после возвращения из Африки. Все они — художники нового времени, которые покинули «башню из слоновой кости» и учатся использовать свою публичность. Калассо неслучайно обращает внимание на монстра из сна Бодлера, основное занятие которого — выставлять себя на всеобщее обозрение.
Самое время вспомнить про Беньямина, без упоминания которого здесь сложно обойтись. В одном из своих эссе о поэте он писал: «Для него [Бодлера] было привычным делом сравнивать литератора — и в первую очередь самого себя — с проституткой. Вводное стихотворение к „Цветам зла”, „Au lecteur” [„К читателю”], показывает поэта в неблаговидном положении человека, получающего звонкую монету за свои откровения. Одно из самых ранних стихотворений, не вошедших в „Цветы зла”, обращено к уличной девке». Велик соблазн провести параллель между ходом мысли двух авторов, но за внешним сходством кроется существенное различие. Если Беньямина Бодлер интересовал не в последнюю очередь как «ключ» к пониманию социальных и политических процессов эпохи — тоже большой любитель аналогий, он часто сравнивал поэта со знаменитым заговорщиком Луи Бланки, — то для Калассо важна исключительно художественная интуиция Бодлера, предвосхитившая появление нового искусства. В этом смысле «зыбкое чувство современности» из названия V главы книги — достояние одних только творцов. Вероятно, именно так следует трактовать слова Калассо о том, что «писатель именно тем и отличается от других, что понимает все буквально».
Но как минимум в одном отношении аналогия между Беньямином и Калассо представляется оправданной. Для них обоих настоящее уже содержит в себе предчувствие грядущего — «каждой эпохе грезится следующая за ней», — и нужно лишь уметь распознать его, что и сделал Бодлер. Вал Бодлера, предстающий перед нами в книге Калассо, — воплощение этого предчувствия.