Дай мне свои глаза
Иван Напреенко — о книге «Империя наций»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Франсин Хирш. Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Перевод с английского Роберта Ибатуллина. Содержание. Фрагмент
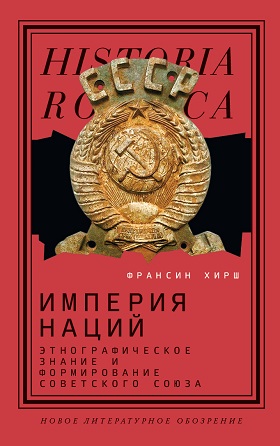 В своем обращении, оглашенном 21 февраля, Владимир Путин сообщил, помимо прочего, следующие вещи:
В своем обращении, оглашенном 21 февраля, Владимир Путин сообщил, помимо прочего, следующие вещи:
1. «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией».
2. «Ленинские идеи конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения были положены в основу советской государственности».
3. «Зачем надо было с барского плеча удовлетворять <...> безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать в <...> произвольно сформированные административные единицы — союзные республики — огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории <...> да еще и наделять республики правом выхода из состава единого государства без всяких условий?»
4. «На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти, именно любой ценой».
Оставим первый тезис специалистам по мегаломании, а четвертый — исследователям детских присказок; согласно одной из них, «у кого что болит, тот о том и говорит». Оставшиеся два пункта имеют прямое отношение к книге, о которой я хочу сегодня поговорить. Разумеется, ее содержание несравнимо глубже и интереснее представлений Путина о мироустройстве. Вряд ли бы вообще стоило связывать книгу с тем, как должностное лицо оправдывает военные действия, если бы только не уверенность в том, что это оправдание очень скоро появится на страницах учебников.
Исследование Франсин Хирш относится к числу классических. Оно вышло в 2005 году и остается важным ориентиром для тех, кто изучает советскую национальную политику. Книга полемизирует с работой историка Терри Мартина, которая появилась на русском гораздо раньше — в 2011-м. Его «Империю „положительной деятельности“» любят русские националисты, поскольку находят там доказательства, что большевики ущемляли «государствообразующую группу» в пользу «национальных меньшинств». По версии Мартина, эта политика напоминает «позитивную дискриминацию», которая практикуется в США с 1960-х. Большевики использовали контролируемое развитие нерусских национальных форм, чтобы заслужить лояльность меньшинств. Понимаемый таким образом аргумент гарвардского историка резонирует с путинским утверждением: дескать, большевики заигрывали с националистами, чтобы удержаться у власти любой ценой. Сходство, конечно, сугубо поверхностное — хотя бы потому, что «архитектором» Украины по Мартину выступал Сталин, а не Ленин.
Хирш не спорит с коллегой на его территории — не вторгается в вопросы финансирования советских республик или проблематику коренизации. Ее исследовательский интерес более локален, однако выводы о том, как формировался Советский Союз, объемны. Американку интересуют отношения власти и знания — то, каким образом управленческие решения сплетались с экспертными оценками и как решения и оценки влияли друг на друга. Эксперты, которых исследует Хирш, — это имперские и советские этнографы и антропологи.
Не претендуя на полноту анализа и его академичность, я ограничусь реконструкцией сюжетной линии, которая кажется мне самой важной, и постараюсь показать, как она перекликается с сегодняшним днем.
После революции 1905 года, как пишет Хирш, национальный вопрос стал для большевиков одним из главных. Их позицию по этому поводу отражают два известных текста, имевших в СССР канонический статус. Напомню, о чем в них идет речь, чтобы показать контекст и бэкграунд «какого-то безумия».
В 1913-м Сталин (по просьбе Ленина) написал статью против принципа экстерриториальной автономии (согласно этому принципу представители наций могут решать свои национальные вопросы вне привязки к территории). Грузинский большевик утверждал, что этот принцип заморозит национальные различия, которые должны исчезнуть по мере роста классового сознания. Сталин также признавал, что любая нация имеет право вступать с другими нациями «в федеративные отношения» и отделяться, но не любое отделение социалисты должны поддерживать, а только выгодное «трудящимся слоям». Поэтому, например, отделение азербайджанцев от России приветствовать не надо, поскольку простой люд попадет в лапы «беков и мулл». В качестве альтернативы экстерриториальности и федерализму предлагалась «областная автономия», которая бы не делила население по этнографическим границам. К слову, к «определившимся единицам», которым надо дать такую автономию, Сталин причислял Украину, Закавказье и Польшу.
Сам же Ленин в 1914 году написал текст о том, как национализм может играть на руку социалистам: в государствах на стадии «развивающегося капитализма» — например, в Российской империи — национальные движения способны сокрушить абсолютизм. Потому-то пункт о самоопределении наций необходим. Но также важно учитывать конкретную конфигурацию в конкретной стране. В России, например, есть прогрессивный национализм угнетенных наций (тех же, например, украинцев) и реакционный национализм угнетающих (русских). Ленин полагал, что большинство народов хотят равноправия (а не экстерриториальной автономии, как считали меньшевики) и «на отделение пойдут лишь тогда, когда национальный гнет и национальные трения делают совместную жизнь совершенно невыносимой».
 Сергей Федорович Ольденбург © МАЭ РАН
Сергей Федорович Ольденбург © МАЭ РАН
Наконец, чтобы понять, как обстоит дело с национальностями в России, Ленин считал нужным «увидеть», кто в империи живет, — а для этого необходимо проводить исследования населения и переписи. Вряд ли он знал, что в то же самое время непременный секретарь Академии наук Сергей Федорович Ольденбург и его коллеги из Русского географического сообщества планировали свое исследование этнографического состава населения империи — и тоже плотно размышляли о проблемах народностей, наций и национальностей.
В прямой альянс большевики и этнографы вступили в ноябре 1917 года, когда Ленин встретился с Ольденбургом и они несколько часов обсуждали роль науки в новом Советском государстве. В феврале Ольденбург и ряд академиков подписали документ о лояльности Академии советскому режиму. А еще через несколько недель большевики заключили мир с германским правительством — и пользовались при этом картами западных окраин Российской империи, подготовленными этнографами из Комиссии изучения племенного состава (КИПС) России при Академии наук.
Имперские этнографы, показывает Хирш, стремились служить государству и всячески доказывали важность своей науки в годы Первой мировой. Однако лишь большевики смогли по-настоящему распознать их потенциал и реализовать мечту ученых о влиянии в масштабах, которые их европейским коллегам не снились. Желание бывших имперских экспертов участвовать в государственном управлении идеально отвечало стремлениям тех, кто считал, что научное государственное управление — это ключ к радикальному переустройству.
В 1918 году империя распалась, — и, хотя большевики до революции отвергали федерализм и экстерриториальную автономию как «решения» национального вопроса, Ленин признал (по факту отделения Украины), что этнотерриториальный федерализм может быть «самым эффективным средством воссоединения территорий и народов России — и первым шагом к далекой цели объединения наций в социалистическом союзе». В новой ситуации советская позиция по правам народов была созвучна чаяниям нерусских лидеров. Их поддержка помогла большевикам закрепиться, однако риторика революционеров ничуть не была случайным популизмом и с 1913—1914 годов не изменилась. Едва ли не больше молодой власти помогло то, что царский режим, Временное правительство, а затем и белое движение изо всех сил игнорировали национальный вопрос.
Что дальше? Коллаборация между этнографами и большевиками углублялась. Нужно было понять, как строить социализм в ситуации «многоукладности» — на огромной территории, где сосуществуют сообщества на очень разных этапах развития. Как создавать административно-территориальную структуру? Как проводить границы? Готового сценария не было: большевики не знали, как подступиться, им нужен был взгляд экспертов.
Конкурировали два подхода к делению территории: экономический (ее поддерживали сотрудники Госплана) и этнографический (за нее выступал Наркомнац). Сторонники обеих парадигм считали, что в «идеальной федерации» народности должны исчезнуть. Однако пути к этому предполагались разные. Госплановцы были уверены, что для этого надо «отсталые» народности объединить с развитыми. Эксперты из Наркомнаца же склонялись к тому, что спешить не стоит, а лучше выделить территориальные единицы даже лишенным национального самосознания народам. Этнографы КИПС поддерживали обе парадигмы, характеризуя хозяйственную ориентацию как важный этнографический признак, а этнический состав — как экономический фактор. В итоги власть также выступила за компромиссный, гибридный вариант районирования, в котором экономический принцип деления не (очень) противоречил национальному.
В любом случае, чтобы делить и трансформировать — например, племя заполярных охотников — в развитую нацию, необходимо увидеть и понять, с кем имеешь дело. Поэтому 1-я Всесоюзная перепись 1926 года имела столь колоссальное государственное значение. Хирш подробно разбирает, как обсуждались концепты, разрабатывалась анкета, писались инструкции переписчикам, с какими странностями сталкивались (счетчики одного региона сообщили, что многие женщины назвались там «проститутками»), как анализировались данные. Для любого, кто интересуется вопросами методологии социальных исследований, это крайне интересные страницы.
 Франсин Хирш. UW Madison — Department of History
Франсин Хирш. UW Madison — Department of History
Вопрос, который неизбежно возникает у читателя: а зачем вообще большевики стремились развивать национальное сознание у групп, которые, как выясняли этнографы, его были лишены? Дело вовсе не в «положительной дискриминации», уверена Хирш, а в специфической вере советских руководителей в эволюционистские идеи XIX века. Ведь если коммунизм — это финальная глава в сценарии универсального прогресса, то национализм — его обязательный эпизод. А значит, конечная цель государства — не ущемить великорусских шовинистов в интересах национальных меньшинств, а способствовать продвижению всех народов по обозначенному Марксом маршруту: от первобытного строя к коммунизму через феодализм, капитализм и социализм. Конечно, это довольно узколобая евроцентричная картина: те же этнографы свидетельствовали, что сообществам Средней Азии западноевропейская идея нации чужда и они прекрасно создают сложные политические системы вовсе без нее — например, в Хорезме.
В конце 1920-х роман этнографии с властью стал приобретать абьюзивный оттенок. Эксперты КИПС уже высказывали опасения по поводу консолидации народностей (в рамках общего поворота к консолидации всего). Но опасения переросли в ужас, когда в 1928-м Сталин объявил о «великом переломе», что означало форсирование всех социальных трансформаций. В том же году началась кампания против Академии наук и этнографов, ставшая трагедией для одних и карьерной лестницей для других. Выяснилось вскоре, например, что этнографические выставки не отражают «стихийного зарождения новой советской культуры» — в том числе в украинских селах. Виновные — бывшие имперские этнографы — подвергались преследованиям. Оставшиеся поняли запрос — дисциплину надо пересоздать на марксистских основаниях; споря с Юрием Слезкиным, Хирш называет этот момент не «падением», а изобретением советской этнографии.
В 1931 году партия потребовала у этнографов дать ответ на идеологическую угрозу — нацистскую расологию. Немецкие антропологи, еще недавно ездившие вместе с советскими коллегами в сибирские экспедиции, утверждали, что советский проект обречен, поскольку большевики делают ставку на расово-неполноценные народности. По существу, политическое руководство поставило перед учеными задачу доказать, что все народности СССР способны участвовать в социалистическом строительстве. Остроту ситуации придавал факт, который невозможно было скрывать: чаемая консолидация народностей в «развитые нации» идет гораздо медленнее, чем ожидалось. Это торможение также требовалось объяснить.
И советская этнография дала ответ на оба вопроса — через понятие «пережитков», заимствованное у Эдварда Тейлора, на чьи труды опиралась еще имперская наука. Пережитки — «элементы культуры», которые утратили свой «смысл и функцию», но «в силу обычая переходят на новую стадию развития общества». Точнее, не переходят — их переносят классовые враги: священники, шаманы, кулаки, муллы и прочие элементы, занятые саботажем революции. Их деятельностью и объяснялись провалы коллективизации. Найденное этнографами объяснение «отсталости» по факту стало научной базой террора — конфискаций имущества, арестов, депортаций, а материалы этнографических экспедиций ложились в основу визуального нарратива о великой борьбе с внутренним врагом.
Во второй половине 1930-х петля затянулась еще туже. Перепись 1937 года показала куда более скромный, чем предсказывал Сталин, рост населения и значительное падение численности отдельных национальностей — в частности, украинцев и казахов. Причина — коллективизация, миграции, террор, управленческие ошибки. Перепись была объявлена контрреволюционным саботажем, данные аннулированы. Видных специалистов по статистике арестовали и расстреляли, пострадали также этнографы.
Подготовка новой переписи шла в тени магической фразы, произнесенной Сталиным в речи о новой конституции: «В Советский Союз входят, как известно, около 60 наций, национальных групп и народностей». Откуда взялась эта цифра, понятно не вполне. В той же речи прозвучало, что в СССР закончился переход к социализму (из чего следовало, что консолидация отсталых народов завершилась). Перед этнографами встала безумная задача сократить до 60 позиций переписной список из 109 национальностей, который и так с 1926 года за счет идеологической подгонки сократился в два раза. Эксперты прекрасно понимали, что те, кто покинет список уйдут в темноту — лишатся национальных прав, их национальные учреждения будут закрыты. Понимали они и то, что ждет их самих, если список сокращен не будет.
И вновь этнографы нашли выход — разбив список на две части. В одну вошли нации, имеющие национально-государственное оформление и свои территориальные единицы. А в другую — те, у которых ничего не было. В процессе распределения научно оформилось понятие «национальные меньшинства» — т. е. народности, которые при всем желании не могут развиться в советские нации, поскольку представляют собой диаспоры иностранных наций, лояльных другим, капиталистическим государствам. По мнению Хирш, эксперты Института археологии и этнографии подготовили и обосновали внеправовое деление национальностей на советские и диаспорные, которым к тому времени уже оперировало НКВД. К концу 1930-х это деление стало частью нарратива о «дружбе народов», которому противопоставлялись несоветские иностранные, т. е. вражеские национальности — поляки, немцы, шведы, японцы и т. д.
Основная часть книги заканчивается такими словами:
«Несомненно, эксперты работали в обстановке страха и ограничений и понимали, что их роль — служить режиму. Отнюдь не на такого рода сотрудничество рассчитывали некогда Сергей Ольденбург и его коллеги. Однако этнографы <...> не могли пожаловаться на то, что государство пренебрегает экспертным знанием. Советский Союз, в отличие от царской России, претендовал на роль научного государства — и даже в разгар Большого террора продолжал опираться на экспертов и даваемое ими научное обоснование его политики. Поэтому даже Сталин (считавший себя экспертом в большинстве областей) обратился к этнографам для подготовки нового списка национальностей к переписи 1939 года. Этнографы, со своей стороны, стремились исполнить требования режима и сохранить ощущение себя профессионалами. Они мучительно пытались объяснить даже явно политические решения в научных терминах, зачастую впадая при этом в самообман. Своими усилиями эксперты помогли подчинить население советской власти и осуществили полную советизацию собственной дисциплины».
***
Читая Хирш, я не мог не думать о собственном опыте работы в различных исследовательских организациях, заказчиком которых выступает российское государство. Заказчик часто транслирует две взаимодополняющие установки: первая — «объясните нам, почему мы принимаем правильное решение», вторая — «результат, который вы должны получить, известен, ваша задача — к нему прийти». Будет опрометчивым голословно утверждать, что существует преемственность между этими установками и тем, как описывает Хирш отношения между советской властью и экспертами от социальных наук. В конце концов, современная Россия не хочет быть научным государством; скорее здесь верят в технократию — возможность эффективно «решать вопросики» — и вместе с тем презирают знание, чему доказательство — скандальный провал переписи 2021 года. Однако определенное сходство трудно не заметить.
Еще я думаю о том, в какой момент к российским и советским этнографам, о которых пишет Хирш, приходило осознание, что коготок увяз. Пользовались ли они этой поговоркой? Жалел ли Ольденбург, когда его коллег сажали, а его самого снимали с должности, о том, что согласился помогать большевикам в 1917-м? Что снилось участникам «антрополого-этнографического отряда» экспедиции бывшей КИПС, когда они помогали «выявлению кулацких элементов» в лесных краях УССР и БССР между 1932-м и 1933-м? Как трепали за щеку своих детей этнографы — люди из родственной мне, социологу, дисциплины — в 1939 году, придя домой после решения слить шунганцев, ваханцев и ишкашимцев в один списочный пункт с таджиками? И о чем думал руководитель Бюро переписи Владимир Старовский в 1938-м, когда откровенно конфликтовал с НКВД, отстаивая требование фиксировать национальность исключительно по словам человека, без документальной проверки?
И конечно, я думаю о тех, кто пишет для должностных лиц псевдоисторические тексты, которые зачитываются перед тем, как будет отдан приказ о бомбардировке мирных городов. И тех, кто уже спешит в карьерный лифт, чтобы обосновывать в «научных работах» славянское происхождении князя Рюрика, которое возникло в чиновничьей речи загадочно, словно цифра «60». И о всех, кто составлял и составляет «нейтральные формулировки» вопросов, писал и пишет всевозможные программы, проводил и проводит экспертизы.
И вспоминаю, что стремление любой ценой удержаться у власти — в данном случае экспертной власти — осуждает даже президент РФ.