«Чтойность» русской классики, монах-афганец и неизвестный Куприн
Работы выпускников Школы литературной критики Ясной Поляны
Евгения Лисицына
«Всеяблоко» русской классики
Марина Степнова. Сад. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
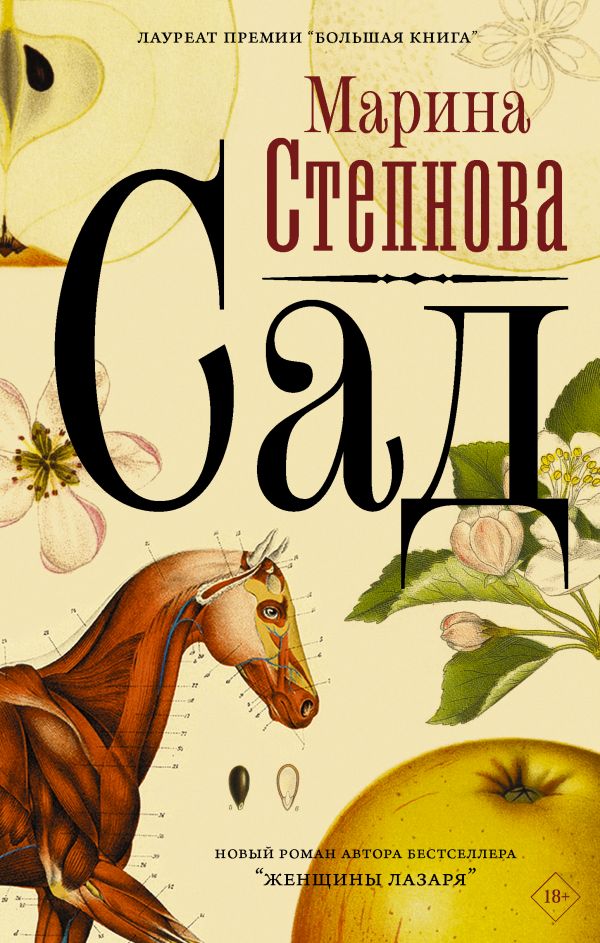 Роман Марины Степновой «Сад» создавался около десяти лет и изначально должен был носить название «Иначе». Многие читатели восприняли его как попытку стилизации под русскую классику, но с таким мнением можно поспорить. Автор не пыталась слепо копировать стиль зубров российской словесности, а выбрала для романа редкий по нынешним временам жанр каталога — или списка. Этот жанр некогда был очень популярен, и его можно отнести не столько к подражательной литературе, сколько к самому литературоведению. Так что и яблочко из «Сада» получается не стилизованное, а обобщенное. Перефразируя Джеймса Джойса, утверждавшего, что «лошадность — это чтойность вселошади», можно сказать, что «Сад» — это чтойность всего корпуса русской классики.
Роман Марины Степновой «Сад» создавался около десяти лет и изначально должен был носить название «Иначе». Многие читатели восприняли его как попытку стилизации под русскую классику, но с таким мнением можно поспорить. Автор не пыталась слепо копировать стиль зубров российской словесности, а выбрала для романа редкий по нынешним временам жанр каталога — или списка. Этот жанр некогда был очень популярен, и его можно отнести не столько к подражательной литературе, сколько к самому литературоведению. Так что и яблочко из «Сада» получается не стилизованное, а обобщенное. Перефразируя Джеймса Джойса, утверждавшего, что «лошадность — это чтойность вселошади», можно сказать, что «Сад» — это чтойность всего корпуса русской классики.
В романе-каталоге трудно рассуждать о персонажах, композиции и сюжете, потому что сама структура списка предполагает, что мы увидим все. По крайней мере, все значимое и наиболее характерное для этого периода. Марина Степнова последовательно и скрупулезно вводит всех типичных персонажей литературы классического периода, все сюжеты и подсюжеты, любовные и политические линии, антураж усадьбы и города, настоящую дружбу и одержимую преданность, неожиданные сломы и культурологические заметки. Каждая деталь и каждый поворот — это тщательно выверенный пункт списка: вот что может происходить в русской классике. Если подойти к роману подготовленным и достаточно напитанным романами XIX века, то вряд ли какие-то ходы или образы нас удивят. Скорее удивительно, что они все встретились на страницах одного текста, а не десятка разных.
Точно с такой же дотошностью каталогизируются и художественные приемы. Кому-то наверняка покажется избыточным, что один и тот же сад, одно и то же яблочко будет описываться с десяти различных углов, каждый из которых отличается лишь на пару градусов. Но это тоже каталог — каталог оттенков и интонаций, звуков, цветов, запахов и метафор вокруг одного предмета. Настоящая энциклопедия, показывающая, как могли бы описать одно и то же явление разные авторы классической эпохи. Потому и кажется, что это описание чрезмерно, ведь по канонам литературного редактирования незачем говорить, что одно-единственное яблоко может быть душистым, ароматным, пахучим, пряным и еще бог весть каким. А по канонам литературного списка — не только можно, но и нужно.
Так и получается, что любители русской классики будут бесконечно млеть от «Сада», находя в этой энциклопедии все новые и новые узнаваемые статьи. Нелюбители (или просто далекие от звания знатока классической литературы) станут обзывать роман слишком простой стилизацией и морщить нос с утверждением, что сейчас не девятнадцатый век и незачем воровать чужие лавры. Но стал бы автор для обычной стилизации настолько углубляться в фактуру? Считать ступени, измерять метражи, проверять график цветения разнотравья и тратиться на еще тысячу различных мелочей. Такой подробный фактчекинг — свойство больше научно-популярной литературы и нон-фикшна, чем роман Степновой отчасти и является.
В итоге все зависит от читателя. Кому-то неинтересно степановское «всеяблоко» русской классики, которое включает в себя все яблоки из всех садов литературного корпуса. Уж слишком оно идеальное, блестящее, гладкое, словно из рекламы. Такие читатели предпочтут яблочко с косым бочком и бородавкой, зато свое, местное, ведь в таких больше всего витаминов, хоть и хранятся они недолго. Кто-то будет надкусывать крепкий глянцевый бок и вспоминать те яблоки, что некогда пробовал на своем читательском пути. А кто-то и вовсе яблоки терпеть не может, подавай ему банан или маракуйю заморскую.
* * *
Алевтина Бояринцева
Опаленные души
Дмитрий Лиханов. Звезда и Крест. М.: Эксмо, 2020
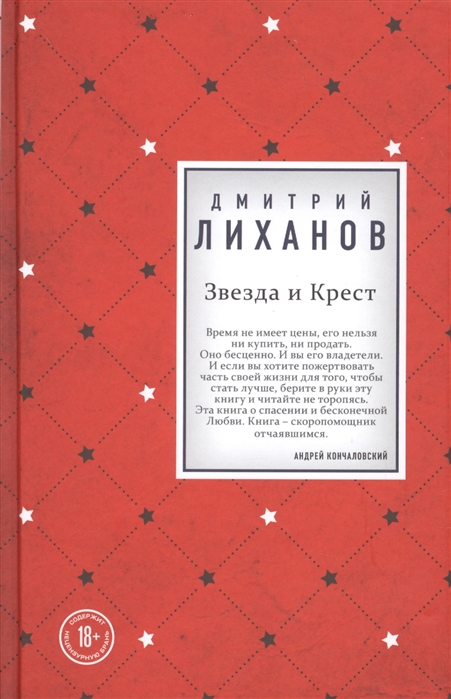 Нужна ли рецензия книге, предисловие к которой написал Андрей Кончаловский? Само это имя как навигационный жест: уже им одним сочинение отнесено к разряду значительных, обращенных к вопросам онтологическим, религиозным, этическим.
Нужна ли рецензия книге, предисловие к которой написал Андрей Кончаловский? Само это имя как навигационный жест: уже им одним сочинение отнесено к разряду значительных, обращенных к вопросам онтологическим, религиозным, этическим.
Выбрать эту книгу из числа номинантов на премию «Ясная Поляна» меня побудил все же не «заветный вензель» А да К, а локация и интуиция. Семья Дмитрия Альбертовича Лиханова — из Вятки: мы земляки. Вятку не вытравишь ни из стиля, ни из сердца, поэтому предчувствовала, что прорывы информации регионального свойства почти неизбежны, а я могу экспертно ее подтвердить или опровергнуть. По прочтении подтверждаю: герой второго плана Витя Харитонов — и правда из русского города Кирова (однако не так уж далекого от авиации, как обмолвился автор).
Название книги давало надежду на религиозный дискурс: и это мне близко. Но религиозным оказался не только аспект, поворот, подача: книга — это духовная история человека, сложно пережитая и сложно рассказанная. Читать роман Лиханова счастливым людям я бы не советовала. Разве что ради интеллектуального удовольствия от процесса разрушения иллюзий. Вот, кажется, знакомый композиционный прием: история почти из наших дней (1980–1990-е) переплетается с историей святых из глубины веков (III век от Рождества Христова). Будет похоже на «Мастера и Маргариту»? Вовсе нет. Книга о Га-Ноцри создавалась героем современной истории, а здесь история святых создает героя нового времени. Чуть ближе к лихановскому тип соотношения разновременных повествований, предложенный братьями Вайнерами в «Визите к Минотавру» и «Лекарстве против страха» (какими бы разными ни были Лиханов и авторы детективов с двойным дном). У Вайнеров герой старой истории «работает» на героя истории новой: делает его образ объемнее, интертекстуальнее даже.
У Лиханова в «древней истории» показана жизнь и страдания Киприана — христианского мученика, чье имя получит подполковник-афганец Сашка при постриге. Конец земной истории священномученика Киприана в повествовании совпадет с началом новой монашеской жизни воина (в монашестве Киприана). «Имя новое отзывается в сердце жаркой волной. А вместе с тем открывается и промысел Божий, что связывает отныне грядущую монашескую жизнь с небесным покровителем Киприаном, Священномучеником Антиохийским». Автор мастерски соединяет автора истории, передавая имя — и служение — от героя-мученика герою-монаху.
Исторична ли книга Лиханова? Автор следует древним источникам в повествовании о Киприане и Иустине, свидетельствам очевидцев (в первую очередь прототипа Сашки — Героя СССР Валерия Буркова) в афганских и постафганских главах. Писатель даже чрезмерно старателен в описании боевой техники — но, может быть, это для кого-то важный довод в пользу достоверности. Лиханов не ставит вопроса о смысле и политической оправданности войны, добравшейся до дальних уголков нашей страны гробовым свинцовым эхом. В его книге война — с анекдотом про «родную Афганщину» за минуту до боя, с матом, страхом, безумием, милосердием, верой и безверием. С долгим, почти как радиационное облучение, эффектом воздействия, опаляющим душу.
Столько же, сколько о войне и вере, это книга об отце. Если верите в архетипы, считайте «Звезду и Крест» интересной интерпретацией образа отца (старшего, наставника). Верите в арт-терапию — сверяйте свою историю общения с папой с диалогом (большей частью — мысленным, духовным) главного героя с его отцом.
Какой контекст поможет понять книгу Лиханова? Какой читательский опыт полезен? Пожалуй, «Повесть о настоящем человеке» Полевого и «Несвятые святые» архимандрита (митрополита) Тихона. Время уже смягчило идеологический пафос «Повести…»: стоит иметь ее в виду — и не только потому, что летчик Сашка остался без ног. Весьма отчетливые переклички возникают между рассказами митрополита Тихона с историей воцерковления героя-воина.
Читайте — ради Саши ли, медсестры Серафимы, ради бедных наших парней или христианских мучеников, главное — читайте.
* * *
Кирилл Копылов
Скинуть гранатовые оковы
Максим Гуреев. Любовь Куприна // «Новый мир», № 10, 2020
 При упоминании фамилии Куприн — в литературном контексте, разумеется — у рядового читателя сразу же возникает первая, а зачастую и единственная ассоциация — «Гранатовый браслет». Кто-то может вспомнить «Поединок» или «Яму», но именно «браслет» накрепко приковал Александра Куприна к массовому читательскому сознанию. Поэтому повесть Максима Гуреева, представляющая собой художественное осмысление юношеского этапа жизни писателя, выглядит смелой попыткой разорвать устоявшийся шаблон.
При упоминании фамилии Куприн — в литературном контексте, разумеется — у рядового читателя сразу же возникает первая, а зачастую и единственная ассоциация — «Гранатовый браслет». Кто-то может вспомнить «Поединок» или «Яму», но именно «браслет» накрепко приковал Александра Куприна к массовому читательскому сознанию. Поэтому повесть Максима Гуреева, представляющая собой художественное осмысление юношеского этапа жизни писателя, выглядит смелой попыткой разорвать устоявшийся шаблон.
Повествование следует за биографией писателя. Мы знакомимся с его матерью Любовью Алексеевной, через сны которой узнаем и про отца, умершего, когда будущему классику едва исполнился год. Упоминается непростое детство Куприна под материнской гиперопекой, учеба в гимназии, военном училище, служба в пехотном полку, знакомство с женой Марией Давыдовой, первые писательские шаги и творческие муки… но повесть не исчерпывается простым перечислением всех этих событий.
Гуреев создает вокруг личности Куприна определенный миф, мастерски обыгрывает его и тем самым придает своей повести некий пограничный характер. По одну сторону этой границы — литературоведы, любители классики, просто искушенные читатели; по другую — аудитория, мыслящая связкой «Куприн-школа-гранатовый-браслет». Кажется, что может быть лучше для произведения, если оно рассчитано на любой уровень подготовки, но на деле получается казусное — ни вашим, ни нашим.
Знатоки литературы подумают, что автор временами слишком вольно обходится с биографией писателя, наполняя ее излишним психологизмом и даже мистицизмом. Второе, но куда более многочисленное сообщество читателей может не сразу понять, что в основе книги лежат фрагменты реальной биографии. И тут надо сделать важное замечание: пограничное состояние не делает повесть плохой, оно придает ей определенную спорность и неоднозначность. Последнее странным образом даже идет ей на пользу. «Любовь Куприна» очень легко прочитать (первую треть так точно) без всякой мысли, что Куприн — это тот самый классик из школьной программы. Тем более что главный герой повести иногда отходит на второй план, уступая сцену не менее колоритным персонажам.
Чего стоит, например, Сергей Уточкин — спортсмен, гонщик, яхтсмен, летчик… всего и не перечислишь. Максим Гуреев, посвятивший Уточкину биографическую книгу в серии ЖЗЛ, не стесняется признаваться в симпатиях к этой яркой личности, на фоне которой образ Куприна словно теряется.
Повесть полна подобных исторических зарисовок и персоналий. Автор умело подогревает читательское любопытство, и вот ты уже копаешься в Википедии, пытаясь выяснить, как на самом деле сложилась встреча Куприна и Толстого, чем закончился брак писателя, убили его отца или нет и существовал ли на самом деле штабс-капитан Рыбников.
К достоинствам повести стоит отнести интересный внутренний монтаж — следствие опыта, полученного автором на поприще документального кино. Прерывая повествование ради появления новых героев, тасуя сюжетные линии, Гуреев не забывает ни единой детали, склеивая их в единую ленту, отвечающую на многие вопросы внимательного читателя.
Однако вопрос о личности самого Куприна получает странный, даже карикатурный ответ. Подобно скандинавскому богу Локи, меняющему обличья, Куприн ускользает не только от читателя, но будто бы и от самого автора, оставаясь странноватым чудаком, читающим официантам записки из блокнотов, жгущим рукописи, сбегающим от жены, но в то же время вспыльчивым и даже опасным человеком с хитрым татарским прищуром. И потому финальный аккорд повести, под аккомпанемент которого Куприн наконец-то освобождается от психологических оков трудного детства, не вызывает чувства сопереживания. Куда сильнее читателя мучает вопрос: что же случилось в дальнейшем с прославленным Сергеем Уточкиным?