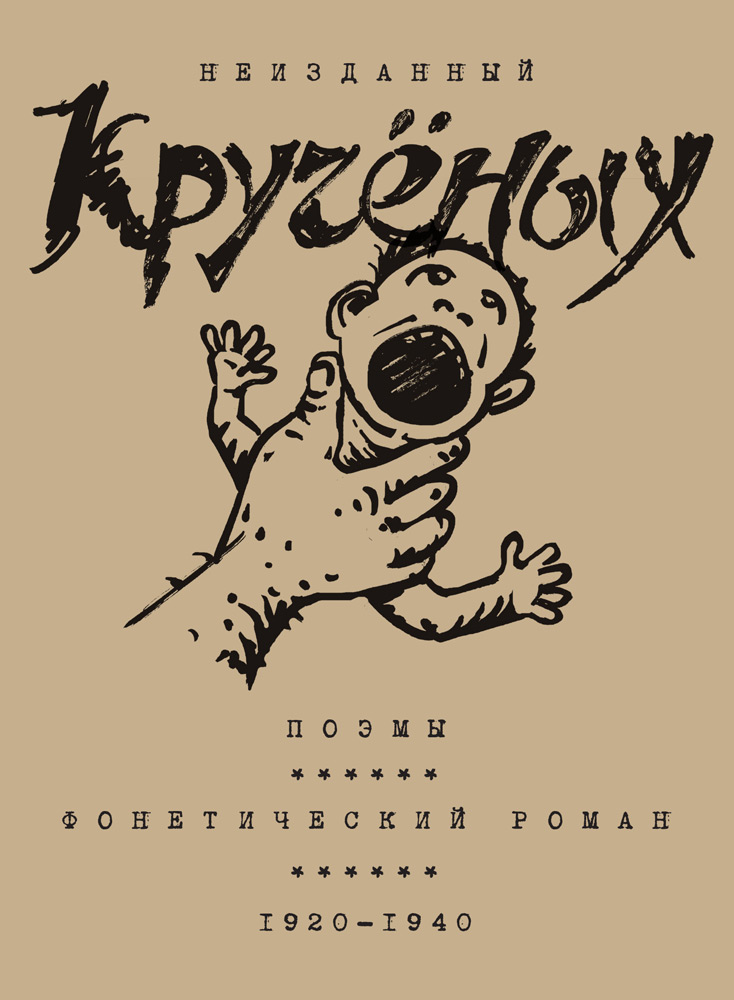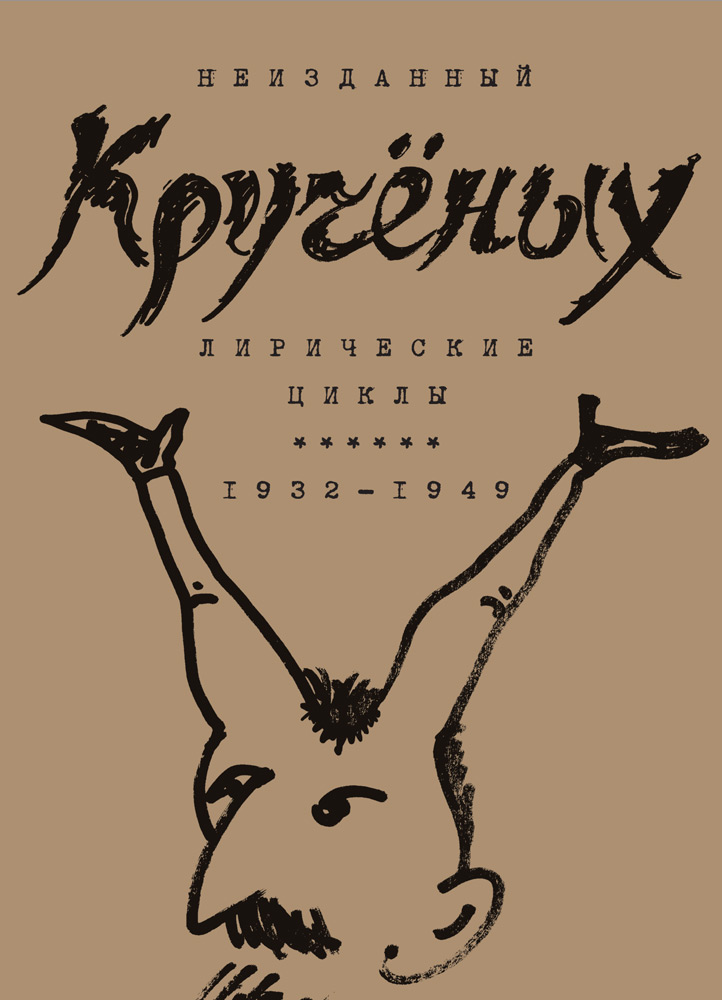Чтобы писалось туго и читалось туго
Иван Щеглов — о «Неизданном Крученых»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Много лет назад (восемь) я брал интервью у Сергея Кудрявцева для «Лукошка Российского Глубокомыслия», где в те годы мне довелось быть главным редактором. Попутно я поинтересовался, почему не выходит поздний Крученых и Сергей ответил, что этот автор все-таки общее место и кто-то наверняка в ближайшее время доберется и издаст его должны образом, а свои силы ему хотелось бы направить на то, что никто кроме него не сделает. Миру суждено было нарушить эти планы: Крученых все не появлялся, и не появлялся, и не появлялся.
А ведь дело это казалось крайне актуальным. Классический зеленый томик Крученых 2001 года издания заканчивался 1930 годом, когда он перестал печататься. С тех пор глава футуристов, как известно, прожил еще 38 лет и, в общем, литературной деятельности не бросал — так что же он писал в эти годы? Интерес так и зудел, но приходилось набираться терпения, довольствуясь случайными кусочками, типа «Арабесок из Гоголя», опубликованных Сигеем и выложенных на сайте «Гилеи». Впрочем, «Арабески» интерес скорее подогревали, чем удовлетворяли. В 1993-м в «Гилее» при участии того же Сигея вышла «Крученыхиада» Феофана Буки, написанная в соавторстве с К. — она показывала шутливо-дружеский вектор позднего Крученых. В последующие годы выходило довольно много новых книг, так или иначе связанных с Крученых, но они охватывали дореволюционный и тифлисский периоды, иногда 1920-е. По капле это тоже проливало свой свет: если поначалу Крученых воспринимался в первую очередь как ведущий теоретик и самый радикальный практик круга Крученых — Каменский — Хлебников — Маяковский — Бурлюки — Лифшиц, то тут добавилась новая роль: задающий тон в трио заумников Крученых — Зданевич — Терентьев. Из проделок Крученых 1920-х годов привлекали к себе внимание его теоретические трактаты по сдвигологии (кстати, их репринтное воспроизведение, книга «Кукиш прошлякам», было одним из первых изданий «Гилеи», оно вышло в 1992 году) и языку, сборники каламбуров, затем — критика Есенина. Постепенно общим местом для интересующихся крученыховским творчеством стали мюнхенские книги Сухопарова, доступные в виде сканов, — «Судьба Будетлянина» (1992) и «Крученых в воспоминаниях современников» (1994), вторая как раз была во многом о советской жизни поэта. Хорошо известными стали мемуары «Наш выход» (1932), все больше сканов оригинальных изданий попадало в сеть, выходили репртинты и даже воссозданные издания С. Тюрина. Не так давно были напечатаны объемные, но весьма сырые работы М. Уральского, встреченные менее требовательными читателями с любопытством, а более требовательными — с критикой, доходящей до отрицания. Так мы и дожили до нового 2025 года... Ни одной книги, целенаправленно представляющей позднего Крученых, за это время свет так и не увидел.
Дело становилось то ли загадочным, то ли карикатурно неудачливым. Вес авангарда и безусловность футуризма в последние годы продолжали расти, абстрактные крестьяне Малевича начали смотреть на тебя с сумок пассажиров метро, а цитата из Хлебникова — провожать в аэропорту, ведущее место Крученых никем не оспаривалось, но тексты все не появлялись. Даже если учесть, что одной из позиций было то, что Крученых,мол, к старости исписался или стал советским соглашенцем (непечатающимся?), его авангардный вес обеспечивал тот кредит доверия, при котором любые опубликованные вещи будут встречены с интересом. По крайней мере, такое ощущение складывалось у автора настоящей статьи. Но тексты все не появлялись.
И вот, наконец, традиция прервана: в этом году в «Гилее» вышли подряд три книги неизданного Крученых, складывающихся в единый концептуальный труд по интересующей нас теме.
|
Первый новый том состоит из поэм (1920–1940). Их не так много. Верлибр «Козел-американец» языковыми оборотами напоминает зооморфные вещи Маяковского типа «Как я стал собакой». Трилогия про Иоганна Протезу, очень слаженная вещь в духе «ЛЕФа» и немецкого экспрессионизма, конечно, на тему войны и ее последствий. «Рассыпая пышно бисер...» — сложно сказать, но для меня прозвучала как биографический свэг-репрезент, связанный с книготорговой тематикой. Сиквел «Игры в Аду» — новая поэма о карточных игроках (карты — постоянное увлечение Крученых на протяжении всей его жизни), 1940 года, наверное, самый яркий текст тома. И «Темнота косматая» — уголовный роман в стихах, довольно странный крученыховский жанр, где традиции хлебниковской зауми скрестились с криминальными темами остросюжетной литературы или газетных заголовков.
После такого чтения сразу хочется вспомнить, что же из посттифлисского и постзаумного вектора было известно по публикациям, поскольку становится понятным, что даже опубликованные в зеленой книге стихотворные вещи 1920-х годов не обсуждались в читательских кругах широко. «Голодняк» и «Зудесник» (оба — 1922-й) еще активно разрабатывают заумь (первый и вовсе содержит одно из самых известных стихотворений Крученых «Зима мизиз зынь ицив»). «Фонетика театра» (1923) — заумно-практическое дополнение-иллюстрация к теоретическим работам, прокладывающее дорожку для «прикладных» к другому жанру искусства текстов, ярким примером которых станет «Говорящее кино» (1928), концептуальный сборник, написанный от лица кинозрителя, с сюжетами, отзывами и наблюдениями. Между ними вышел «Календарь» (1924), постзаумная лирика о погоде, природе и городе. Последними изданными работами стали два сборника: «Ирониада» и «Рубиниада» (оба — 1930-й) о любви к женщине (конкретной). В отдельно опубликованных стихах 1920-х в основном видим что-то лефовское.
Складывается впечатление, что Крученых за это время более или менее сформировал набор тем, которые затем разрабатывал и развивал до конца жизни. Посмотрим, как эта мысль подтверждается дальнейшими текстами.
|
Второй том состоит из циклов стихов (1932–1949): два романтических в духе «Ирониады» — «Рубиниады» и пять более коротких, тематически разнообразных, от боевого теоретизирования до привычной самопрезентации и антиэстетики, от киностихов до, неожиданно, адских сонетов — как у Поплавского. О романтических циклах следует упомянуть, что если первый, «Книга Ирианная» (1932), был написан близко к предыдущим, то второй, «Стихи Татьяне», — это уже послевоенная объемная вещица, 1948 года, когда автору перевалило за шестьдесят.
Казалось бы, теория скорее подтверждается, но на деле количественные изменения копятся. Важным фактором становится и то, что Крученых со временем перестает рассчитывать на публикацию. Если во времена футуристической юности все его стихи писались как обращенные ко всему человечеству, с готовностью убеждать каждого, что высказанное касается его лично, то Крученых позднего периода как будто уже не думает о читателях, за исключением узкого круга друзей, либо не имеет сил пытаться пробить стену безразличия/непонимания (я говорю именно о художественном отражении этого впечатления, эмоционально впечатанного в стихи). Подзаголовком второй книги Марка Уральского о Крученых было «От дичайшего к тишайшему», и мне кажется, что эволюционную перемену он уловил точно.
|
Наконец, третий том (стихотворения, 1921–1952) — тут будет проще дать официальное описание: «Третий выпуск „Неизданного Крученых“ составлен из отдельных стихотворений гения русского авангарда, написанных в основном в его поздний, андеграундный период. Это 120 очень разных „постзаумных“ текстов, которые варьируют от воинственных или ироничных самопрезентаций до теплых любовных исповедей и шутливых дружеских посланий; от миниатюр на литературные темы до пародий, гротесков и бытовых карикатур; от „адских“ фантазмов до нежных или ядовитых прикосновений к собратьям-поэтам». Действительно, книга оказывается самой разухабистой и удивительной в плане широты тем, которых касается Крученых, в плане проявления его творческой свободы, изобретательности и художественной ловкости. При чтении ее количественные изменения окончательно переходят в качественные.
Становится понятным, что Крученых в последующие десятилетия реализовывался как глубоко оригинальный поэт с собственным голосом, при этом поэт постфутуристический, если брать широкий контекст, и поэт андеграундный — то есть такой, чье творчество по тем или иным причинам не могло дойти до широких кругов. Собственно, таким образом он и стал одним из первопроходцев той поэзии, что существовала на нелегальном положении в СССР примерно до перестройки, а может, даже и для всей андеграундной поэзии вплоть до конца XX века, ведь в силу недоступности информации она так и оставалась «постфутуристической», и каждое следующее поколение заново открывало для себя футуризм, остававшийся все-таки предметом индивидуального знания, а не общим местом.
Творчество же 1920-х годов в этом случае скорее не установило набор тем, но стало зачаточным периодом, из которого развернулся поздний Крученых, расширив их круг и взяв новую высоту. Если рассуждать о более известных заумных вещах, то вот как об этом сказано в предисловии: «В сущности, Крученых сохранил верность и фундаментальному принципу своей поэтики, сформулированному в... книге-манифесте „Слово как таковое“: „Чтобы писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной“. И заумь из его произведений никуда не исчезла: осев в авторской поэтической памяти и став точкой отсчета, возрожденная в лексике „фонетических романов“, она ушла в иные формы, обернувшись сюрреализмом „адских“ текстов и абсурдизмом бытовых этюдов, графическими изломами и брутальной звукописью лирики, сюжетами об игре случая и новым словотворчеством». В общем, это я и имел в виду под общим словом «постфутуризм», и важной особенностью Крученых является то, что он до последнего сохранил антиэстетическую линию, даже романтические стихи дамам организуя без поэтических красивостей. Вот что он сам писал в 1933 году:
«В общем и целом» —
все спасены!
Теперь за немногим дело —
победить:
бледно-кровяной шарик,
истощение, лень,
тэбэцэ!
Перехитрить
сумасшествие, нервы,
петлю, браунинг,
всякие
сугубо личные дела
и семейственные.
Кто же это сделает,
как не я —
величайший целитель,
бессмертник?!!
Но интересно, что и ранний Крученых не был исключительно заумным: можно вспомнить его стилизацию «Старинная любовь» и поэму «Пустынники», «Пустынница», «Полуживой» и целый ряд других стихотворений. Если дореволюционное творчество несло в себе отражение литературы царской России, то поздний Крученых стал «советским» поэтом, хотя и полностью отвергнутым официозом, «советским» в смысле нюансов языка (например, сложно назвать позднего Крученых постсимволистом), но и отсутствия антисоветских мотивов. К сожалению, по моим ощущениям, недобровольная изоляция и возраст все-таки убавили у него энергетики, он легче мог позволить себе «не следить за собой» в художественном плане и пропускать многословие или неотточенность, но с учетом обстоятельств его художественная форма выглядит убедительной. Как бы то ни было, повторюсь, что перед нами полностью самобытный поэт — с целью его нам показать издания «Гилеи» справляются, и видим таким мы его впервые. Любо-дорого посмотреть!
В предисловии к первому тому «Неизданного Крученых» дается перечень изданных материалов по его позднему творчеству, разбросанных по разным узкоспециальным изданиям. Часть из них явно была бы полезна, чтобы получить более яркое представление о позднем Крученых, а также было бы полезно издать все, что сохранилось в архивах, — такой цели настоящий трехтомник перед собой принципиально не ставил, являясь редакторским «избранным» (то, что было отброшено, в предисловии намеком описано как: «Крученых порой разменивал свой дар на полудомашние шутливые вирши или на малоудачные попытки писать „на злобу дня“»). Публикация таких текстов все-таки представляется ценной, как минимум чтобы можно было вынести самостоятельное суждение об их качестве и разглядеть какие-то детальки. Будем продолжать ждать!
Иван Щеглов, 12–20.05.25