Что он на самом деле хотел сказать: о сиквеле «1913» Флориана Иллиеса
Рецензия на вторую часть бестселлера о том, как интеллектуалы провели последний мирный год перед большой войной
Издательство «Ад Маргинем» недавно выпустило книгу Флориана Иллиеса, ставшую продолжением его же бестселлера о том, как европейские интеллектуалы провели 1913-й. Константин Митрошенков рассказывает, почему эту интересную книгу не стоит переоценивать.
Флориан Иллиес. 1913. Что я на самом деле хотел сказать. М.: Ад Маргинем, 2020
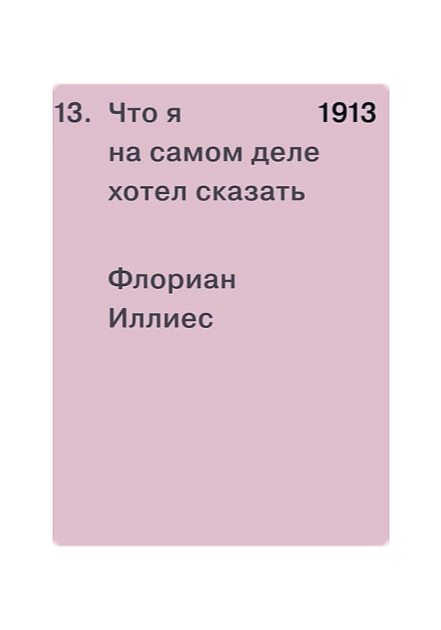 В 2012 году искусствовед и журналист Флориан Иллиес опубликовал книгу «1913. Лето целого века», где попытался написать культурную и интеллектуальную историю одного года в формате хроники. Книга стала бестселлером и была переведена на множество языков, в том числе и на русский. Шесть лет спустя вышло продолжение — «1913. Что я на самом деле хотел сказать».
В 2012 году искусствовед и журналист Флориан Иллиес опубликовал книгу «1913. Лето целого века», где попытался написать культурную и интеллектуальную историю одного года в формате хроники. Книга стала бестселлером и была переведена на множество языков, в том числе и на русский. Шесть лет спустя вышло продолжение — «1913. Что я на самом деле хотел сказать».
«Лето целого века» во многих отношениях было парадоксальной книгой. Во-первых, Иллиес отказался от нарративной структуры и излагал факты как хроникер, но очевидно, что последнее, к чему он стремится, — это рассказать о прошлом «так, как это было на самом деле». Во-вторых, будучи искусствоведом, он написал книгу, в которой повседневная жизнь «великих», казалось, была важнее их произведений — светская хроника вместо раздела с рецензиями. Наконец, Иллиес громоздил анекдоты из будней богемы, большинство из которых вряд ли стали откровением для тех, кто знаком с творчеством его героев, но следить за происходящим все равно было увлекательно.
Поэтому название второй части интриговало. Вдруг Иллиес и в самом деле решил объяснить, ради чего он заставил нас чувствовать себя вуайеристами, наблюдающими за Райнером Марией Рильке, Игорем Стравинским, Томасом Манном и множеством других персонажей? Но Иллиес лукавил и ничего не собирался объяснять. По крайней мере — так просто.
Во введении к другой своей работе, сборнику эссе «А только что небо было голубое», Иллиес пишет: «И я постарался рассказать о том прошлом, которое меня волнует, как о настоящем». Замечание важное, ведь оно поднимает проблему метода. «Что я на самом деле хотел сказать», равно как и «Лето целого века», это, безусловно, книги, примечательные прежде всего своим методом. Поэтому если мы хотим понять, что же Иллиес на самом деле хотел сказать, то сначала нужно ответить на вопрос, как именно он это делал.
В разговоре о прошлом одним из первых перед нами встает вопрос дистанции. Прошлое — оно здесь, в живом контакте с нами, или же утрачено навсегда и в силу этого доступно лишь для безучастного созерцания? Иллиес придерживается первого варианта — в прямом и переносном смысле он пишет историю в настоящем времени. Хроника, в которой мы месяц за месяцем следим за жизнями главных западных художников и интеллектуалов начала XX века, если и не создает иллюзию одновременности нашего существования, то, по крайней мере, позволяет читателю почувствовать, будто ему удалось заглянуть за тот занавес, отделяющий настоящее от прошлого, и подглядеть. Читатель при этом оказывается в парадоксальном положении. Иллиес преподносит жизненные коллизии своих героев как нечто разворачивающееся прямо на наших глазах, но при этом периодически напоминает, что, каким бы интересным ни был этот матч, его исход нам заранее известен. Будто по ошибке забегая вперед в будущее героев, он тут же осекается — «но сейчас не об этом». И никакого противоречия здесь нет. Большинство сюжетов Иллиеса — будь то эпопея с публикацией первой части «В поисках утраченного времени» Пруста или неудачная женитьба Кафки — перекочевали из предыдущей книги, а финал этих историй и так хорошо известен читателю. «1913» — тот случай, когда процесс важнее, чем результат.
Хроника как исторический жанр обычно претендует на нейтралитет в преподнесении своего материала, подчиненного лишь хронологическому принципу, но в действительности для нее крайне важны вопросы фильтрации, исключения и монтажа. Иллиес прекрасно осознает это свойство; хроника позволяет ему сконструировать собственный объектив, через который он и предлагает взглянуть на события 1913 года.
«Что я на самом деле хотел сказать», как и подобает хронике, структурирована по месяцам и, что необычно, временам года. Каждый сезон предваряет краткий обзор основных событий грядущих трех месяцев. Так, мы узнаем, что летом 1913 года Пруст и Нижинский (по отдельности) предавались романтическим приключениям, Хемингуэй боксировал, Брехт жаловался на сердце, а Кирхнер купался. Воистину, идиллическая картина! В изображении Иллиеса события целого года сжимаются до жизнеописания всеевропейского светского салона, до которого если и доносятся вести «снаружи», то в виде обрывочных газетных сообщений о рекордных достижениях и трагедиях. Не то чтобы в книге полностью отсутствовали характерные «приметы времени», но здесь они уходят на второй или даже третий планы. Иллиес несколько раз упоминает о «волнениях» на Балканах, однако до этого нет особого дела даже австрийскому императору Францу Иосифу, которого, кажется, больше интересует обеденное меню, а не внешнеполитические дела: «На восемьдесят третьем году жизни, несмотря на Балканские войны, он отнюдь не утратил аппетит». Среди всех эпизодов Балканской войны — важнейшего события 1913 года с политической точки зрения — Иллиеса больше всего занимает история авантюриста Отто Витте, скорее напоминающая плутовской роман. Воспользовавшись неразберихой, он выдал себя за короля Албании и за пять дней своего правления даже успел собрать гарем, прежде чем турки обнаружили подлог.
Иллиес однажды замечает: «„1913” на самом деле книга о любви». На этот раз он не лукавит, но вернее будет сказать так: «1913» — это книга, в которой конкретно-историческое приносится в жертву «общечеловеческому». Чтобы уничтожить дистанцию, отделяющую нас от героев книги, Иллиес размывает тот исторический фон, на котором они действуют. В фокусе автора оказывается универсальный опыт — болезни, неловкости, разочарования, влюбленности и страха, — который он отказывается историзировать и ставить в зависимость от внешних обстоятельств. Прошлое протягивает руку настоящему и с пониманием хлопает его по плечу — философ Франклин Анкерсмит назвал такой эффект «осовремениванием прошлого», говоря, правда, о микроистории.
Вернемся к изначальному вопросу: зачем все это Иллиесу? Чтобы на новый лад рассказать старую историю о том, что «великие люди тоже люди»? Предположу, что замысел автора несколько сложнее. О событиях 1913 года крайне сложно говорить без телеологизма. Спустя год начнется Великая война, как она была названа в западной историографии, поэтому велик соблазн увидеть в предшествующем времени «предвестие» грядущей катастрофы. Иллиес, однако, стремится к обратному. 1913 год для него — самоценное событие, корректно рассказать о котором можно только на мгновение «позабыв» о том, что случится потом. Именно поэтому его персонажи производят впечатление удивительно близоруких людей, увлеченных какими угодно глупостями — собиранием гербария, как Роза Люксембург, или сельским хозяйством, как Джек Лондон, — но только не тем, что сочли бы важным их потомки. Вальтер Беньямин — тоже, к слову, герой книги, хоть и второстепенный — призывал «чесать историю против шерсти»; по крайней мере, в одном важном отношении Иллиес следует этой идее. Парадокс заключается в том, что метод Иллиеса основывается на намеренном анахронизме, и именно это позволяет ему изобразить эпоху, поглощенную собой и не ведающую будущего. Для его героев на горизонте нет никаких метафорических «грозовых туч», кроме тех, из которых пройдет самый обыкновенный дождь. На страницах «1913», конечно, встречаются и мрачные пророки вроде Освальда Шпенглера, работающего в Мюнхене над своим «Закатом Европы», но положение его довольно комично: кому какое дело до нелюдимого математика, панически боящегося женщин?
Вспомним про название первой части книги. На русский язык его перевели как «Лето целого века», что дословно повторяет немецкий оригинал («Der Sommer des Jahrhundrets»), английский же вариант отличался — «The Year Before the Storm». Лето и буря — образы почти полярные, и в обоих книгах Иллиеса никакой бури нет, есть лишь время, про самоощущение которого уместно сказать: это было навсегда, пока не закончилось. Или, как выразился сам Иллиес в другом месте, «то, что кажется вечным, — мимолетно, а то, что кажется мимолетным, — вечно».
В аннотациях «1913» неоднократно называли «большим тизером XX века», но такое сравнение в действительности противоречит замыслу самого Иллиеса. Озаглавив первую часть «Лето целого века», он не стал уточнять, о каком именно веке идет речь. В «Что я на самом деле хотел сказать» он как будто невзначай — между рассказом о гренландской экспедиции Альфреда Вегенера и сообщением об изобретении застежки-молнии — бросает: «1913 год неразрывно связывает XIX век с XX веком». Вот так просто: что он на самом деле хотел сказать. «1913» — это, конечно, никакой не «тизер XX века». Перед нами мелькают портреты тех, кто в следующие десятилетия изменят мир до неузнаваемости — Гитлера и Сталина, — но сами они и не подозревают о грядущем. Пока первый пишет пейзажи, второй прогуливается по парку и размышляет о марксизме, а Иллиес все гадает, могли они встретиться в зимней Вене 1913-го или нет.
Иллиес, каким бы размытым ни был исторический фон, изображает очень старомодный мир, в котором писатели ведут неторопливые беседы в богемных кафе, а монархи самыми причудливыми образами пытаются разогнать скуку. В этом отношении примечателен и выбор персонажей, среди которых исключительно «великие» и те, кому было суждено «попасть в историю» благодаря знакомству с ними, — как шофер, в которого был влюблен Пруст. Здесь нет «массы» или «толпы», которую вскоре выведут на историческую сцену войны и революции и которая станет предметом осмысления как политических и социальных мыслителей, так и теоретиков искусства. В «1913» есть Маяковский, Малевич и Матюшин, но еще нет программы авангарда по переосмыслению понятий «гений» и «индивидуальное» в наиболее радикальных изводах. В «1913» сплошь «гении» и «индивидуальности», которым, кажется, скоро станет тесно в старой Европе.
Сам Иллиес формулирует так: «Вальтер Беньямин описывал, как люди XIX века закутывались в ткани, будто заключая себя в футляр. Шелест ткани, материальность, укрытые ноги и руки — это было старое время, так было и в 1913 году».
Если и пытаться как-то определить «1913» во времени, то это скорее последний аккорд того самого «долгого XIX века», о котором писал Эрик Хобсбаум. Другой историк, Йохан Хёйзинга, сравнивал период наибольшего культурного расцвета эпохи, предшествующий ее закату, с осенью. Иллиес, наверное, мог бы согласиться с этим — только время года у него другое.