Чичиков на антидепрессантах: «Серотонин» Мишеля Уэльбека
Почему новый роман французского мизантропа особенно близок русскому читателю
Мишель Уэльбек. Серотонин. М.: Corpus, 2019. Перевод с французского Марии Зониной
«Знаменитый Мишель Уэльбек, лауреат многих премий, в том числе Гонкуровской, автор мировых бестселлеров „Элементарные частицы”, „Платформа”, „Возможность острова”, „Покорность”, удивил всех, написав камерный роман о раскаянии, сожалении и утраченной любви», — гласит аннотация к русскому изданию «Серотонина».
Во-первых, хочется поблагодарить ее неизвестного автора за избавление от необходимости представлять читателю Уэльбека. Во-вторых, спасибо за подсказку — теперь предельно понятно, с чего следует начать рассказ об этой книге.
Перед нами все тот же Уэльбек, что и прежде, и ничем новым он не удивит и, более того, удивлять даже не собирается. И это замечательно. Конечно, обещая нечто качественно новое и неожиданное, «продать» книгу проще, нежели честно заявить: «Мишель Уэльбек в седьмой раз поведал нам историю, которую мы уже слышали». Или: «Если вы читали хоть одну книгу Уэльбека, считайте, что вы читали и „Серотонин”». Хотя в этом не было бы ничего плохого, если бы только мы заново научились ценить в писателях постоянство.
Что ж. Мы вновь погружаемся в монолог малоприятного циника-интеллектуала из верхушки среднего класса — литературной маски Уэльбека, давно и надежно приросшей к лицу. Флоран-Клод Лабруст страдает от стандартного пыточного набора, с которым приходит кризис среднего возраста. Его терзают воспоминания о бесцельно прожитой молодости, о женщинах, о катастрофе непродолжительного подобия семейной жизни. К счастью, угрызения совести ему не очень знакомы, иначе наш герой страдал бы и от них.
Все это вместе — то ли причина, то ли следствие глубокой депрессии, в которую не без упоения погрузился уэльбековский персонаж. Ко всем его невзгодам добавляется серьезная неприятность: одним из побочных эффектов от лекарства, прописанного врачом, оказывается снижение либидо не до нулевых, а даже отрицательных значений. Для Лабруста это страшная катастрофа, ведь физическая близость была одним из немногих способов чувствовать себя не таким одиноким.
 Мишель Уэльбек
Мишель Уэльбек
Как водится у Уэльбека, его героя раздражает решительно все: леваки и консерваторы, ханжи и либертины, зажравшиеся буржуа и хиппующая богема, брюссельские чиновники и трудяги-младоевропейцы, скоростные автострады и номера для некурящих. Даже собственное имя становится поводом для проклятий в адрес в общем-то не заслуживших того покойных родителей.
Жирным штрихом к портрету героя становится его профессия. Будучи выпускником престижного агрономического института, он оказывается на не совсем понятной, но весьма доходной службе в министерстве сельского хозяйства. И это очень важный пункт, если держать в уме политические реалии современной Франции. Именно фермерство наиболее пострадало от экономических и экологических реформ, став самой взрывоопасной прослойкой французского общества. Вы наверняка видели кажущиеся издалека курьезными новости о том, как очередной прогоревший крестьянин разбил десяток тысяч яиц о здание городской управы или вылил в реку цистерну молока. Порой их недовольство выражается и в не столь мирных жестах отчаяния. Сталкиваясь с незнакомыми людьми, Флоран-Клод предпочитает умолчать о том, чем зарабатывает на жизнь. И это понятно, ведь для среднего французского обывателя он — живое воплощение абсолютного зла, представитель самой одиозной структуры и без того не особо любимого правительства. На нашей почве он, наверное, стал бы служащим пенсионного фонда.
Подумывая о близости смерти и перебирая возможные способы самоубийства, Лабруст пытается найти причины своего недуга, занимаясь самокопанием. Погружаясь все глубже и глубже в прошлое, он затевает встречи (реальные и воображаемые) с теми, кто имел для него когда-то значение. Сначала он представляет нам свою последнюю на данный момент зазнобу — надменную японку, о немногих достоинствах которой, пожалуй, лучше промолчать. Затем следует вереница бывших любовниц, одна несчастнее другой, и друг студенческих пор Эмерик — настоящий аристократ, меломан, идеалист, любитель марихуаны, уехавший в родное имение возрождать сельское хозяйство Нормандии. И единственный луч света, прожигающий и без того несчастного героя, — любовь всей жизни, потерянная после совершенно бессмысленной интрижки на стороне. Все остальное — лишь условные рефлексы эмоционально выгоревшего существа, лишенного связей с реальностью и общепринятой моралью.
Например, узнав, что его сосед снимает детское порно, Лабруст скорее из научного интереса проникает в его дом и находит видео с десятилетней девочкой, которую часто замечал, глядя из окна. За просмотром он отпускает нелестные отзывы в адрес «отмороженного немца», но куда большую досаду у него вызывает плохая операторская работа. О том, чтобы позвонить в полицию, он, само собой, даже не думает.
В другой сцене мы вместе с Лабрустом находим на ноутбуке его спутницы жизни Юдзу хоум-видео, на котором она предается плотской любви со стареньким доберманом и несколькими псами помоложе. Рассказчик ожидаемо испытывает приступ ярости от поруганной чести, однако необычные предпочтения супруги для него не становятся шоком:
«Что греха таить, для японки (судя по тому, что я успел узнать о менталитете этой нации) нет большой разницы спать с жителем Запада или сношаться с животным».
Иного читателя сцены с подробным описанием экстремальных форм секса, конечно, поразят по-нехорошему. Но лично у меня не повернется язык назвать их порнографическими. По крайней мере, порнографическими в том смысле, который вложен в сайты, просматриваемые от скуки Лабрустом. Порнос «Серотонина» обитает скорее в области смеховой культуры — настолько описанные им ситуации по-фольклорному гротескны, малоправдоподобны и имморальны. И здесь мы подбираемся к ключевому, на мой скромный взгляд, пласту всего романа.
Уэльбек проявляет невиданную щедрость, заставляя героя постоянно проговариваться насчет своих литературных вкусов. И книги, которые он называют, оказываются подлинной движущей силой повествования. Если, конечно, внимательно присматриваться к корешкам на полке Лабруста и не давать его эротико-мизантропическим фантазмам сбить себя с толку.
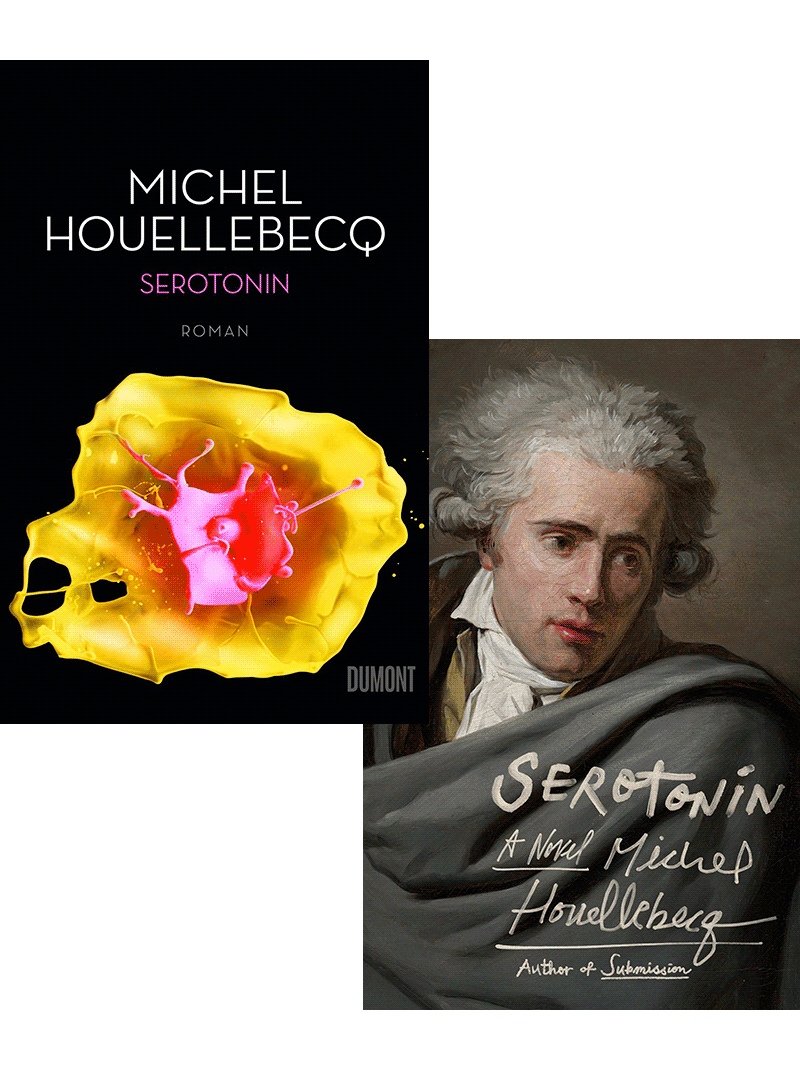
От одних мастеров он едва ли не брезгливо отмахивается. Например, Батай, Жене или Бланшо нужны ему лишь для того, чтобы высмеять вкусы буржуазной публики и усердно подмахивающих ей критиков. Из философов он обращается к Паскалю и Чорану. Над туманностью формулировок первого он посмеивается, второму бездумно поддакивает. Вольтер для него и вовсе лишь фамилия в названии компании, которая выпускает самые неудобные чемоданы в мире.
Но есть один писатель, который становится для Лабруста личным Вергилием в аду глубокой депрессии. Сначала он прокрадывается в текст цитатой из Некрасова, затем настигает героя в самые отчаянные минуты жизни, когда он не может сделать выбор между свободой и тюрьмой, убийством и смирением. Разумеется, речь идет о Достоевском. Но Раскольников из Лабруста оказывается так себе. Сперва он не решается выбросить жену из окна, вспоминая о том, что в тюрьме придется несладко. Затем он не может убить птицу просто ради того, чтобы хоть кого-то убить. А после Лабруст долго терзается, совершить или не совершить главный выстрел в своей жизни, о котором все же умолчим из уважения к тем, кто будет читать «Серотонин» ради сюжета.
Постоянный диалог с Федором Михайловичем не приносит спасения, а лишь усиливает тоску, к которой прибавляется еще и комплекс «твари дрожащей», подцепленный от героев Достоевского. Ключ к «Серотонину» находится в другом месте.
В одном из множества домов, где оказывается Лабруст, он находит роскошное антикварное издание маркиза де Сада. Однако, несмотря на свою уникальность, том оставляет его совершенно равнодушным:
«Эта хрень наверняка стоит целое состояние, мелькнула у меня мысль, пока я листал книгу, украшенную многочисленными гравюрами, впрочем, в основном на гравюрах я и задерживал свой взгляд, как это ни странно, совершенно не понимая, что к чему, на них изображались разнообразные сексуальные позы, количество участников варьировалось, но мне никак не удавалась ни вписать себя в эту сцену, ни вообразить, какое бы место я мог в ней занять».
Этот эпизод, уместившийся в треть абзаца, кажется лишь частью словесного потока Лабруста, регулярно перескакивающего с одной мысли на другую. Но его смысловое наполнение вскоре раскрывается самым неожиданным образом, когда герой обретает подобие надежды, а мы вместе с ним — ключ к «Серотонину»:
«Вот уже несколько недель, как я снова взялся за чтение — ну если так можно выразиться; свое читательское любопытство неуемным я бы не назвал, фактически я читал только „Мертвые души” Гоголя, небольшими порциями, по одной-две страницы в день, не более, и часто перечитывал их заново несколько дней подряд. Это чтение доставляло мне бесконечное наслаждение, никогда еще, мне кажется, ни с одним человеком я не ощущал такой близости, как с этим русским писателем».
Итак, Лабруст оказывается двойником Чичикова в том виде, в котором гоголевский персонаж предстает в первой части «Мертвых душ». В виде главного героя, но при этом стороннего наблюдателя, проходящего мимо толпы типажей разной степени отвратительности. В тех немногочисленных эпизодах, когда Лабруст описывает себя, он, как и Чичиков, оказывается предельно усредненным человеком: ни молод, ни стар, ни худ, ни толст. Даже его член (наверное, самая важная для героя часть тела) — «приличный, без перебора», как выразился Лабруст.
Тогда и косяк в зубах фантазера-неудачника, поднимающего обреченный нормандский агропром, оборачивается горсткой табачного пепла на подоконнике Манилова. Бесконечные европейские автострады, которые так ненавидит желчный рассказчик, превращаются в русское бездорожье. Преображается и сам Лабруст, который из бездушной, вечно ноющей без всякого на то повода оболочки превращается в живого человека.
Как Лабруст откладывает в сторону де Сада, так и Уэльбек отказывается от славы порнографа и скандалиста, пусть и востребованного у публики. Если «Покорность» в ее нонконформистском угаре крайней нетерпимости выглядела неудавшейся попыткой самоубийства чужими руками, то «Серотонин» — работа над ошибками, проделанная при этом с тем же самым нонконформизмом. В человеколюбие Ульбека не веришь до самого конца. Но после того, как книга закрыта, понимаешь: это оно и есть. Просто выражено оно словами и мыслями, ставшими табу с подачи приторных гуманистов наших дней.
P. S. Автор приносит искренние извинения автору аннотации к книге Мишеля Уэльбека, выпущенной издательством Corpus. Простите, если сможете. Пришлось слукавить, сказав в начале, что «Серотонин» — повторение сказки про белого бычка, которую Уэльбек твердит без малого тридцать лет. Все-таки вы и сами понимаете, что рецензию, начинающуюся с ругани, заведомо проще «продать».