Черный квадрат руин
Рецензия на книгу Андреаса Шёнле «Архитектура забвения»
 Андреас Шёнле. Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Авторизованный перевод с английского Андрея Степанова
Андреас Шёнле. Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Авторизованный перевод с английского Андрея Степанова
Впервые одну из глав этой книги профессора русской литературы Колледжа Королевы Мэри Лондонского университета я прочитал в несколько ином варианте в № 89 (№ 3, 2013) журнала «Неприкосновенный запас», вышедшем под общей шапкой «Неисчерпаемое наследие модерна: ностальгия, меланхолия, руина».
В эссе «Раздробленная история и осыпающиеся камни: о романтическом понимании сохранения архитектурного наследия» Андреас Шёнле рассказывал, что любование руинами в России конца XVIII–XIX веков воспринималось безусловным знаком западного влияния: и, если еще конкретнее, влиянием идеологии Просвещения.
Мода на картины Гюстава Робера и приглашение его Екатериной II для работы в Россию — ровно об этом. Но символично, что, несмотря на победу Великой Французской революции, из-за которой искусство Робера резко вышло из моды, художник приехать в Россию отказался. Императрица была этим зело разочарована.
Одни литераторы (Николай Карамзин в «Бедной Лизе») использовали описание развалин для того, чтобы подчеркнуть линию разрыва между «традиционным обществом» допетровской эпохи и наступлением новых времен модерности, зато другие художники (Карл Брюллов в самой знаменитой своей картине) использовали изображение разрушений, дабы лишний раз подчеркнуть непрерывность всемирной истории.
«Последний день Помпеи» манифестировал преемственность европейской культуры и включенность России в общий процесс: «Самое главное заключается в том, что он привносит в Россию Античность, как бы провозглашая свое право наследования ей. Здесь неполное прошлое России становится условием действенности, поскольку освобождает настоящее и позволяет художнику Нового времени присвоить себе классический мир в процессе самоутверждения…».
По определению руины являют нам знаки прошлого — другое дело, что трактовать их можно по-разному.
Каждый раз, встречая в книгах описание заброшенных, разрушающихся зданий или же рассматривая их на картинах, гравюрах и рисунках, мы должны понимать, что они появились здесь не сами по себе, а выражением каких-то важных, общественно-политических идей.
При этом изображения культурных останков — материя динамическая: смысл руин меняется не только в зависимости от задач, поставленных перед собой литератором или художником, но также и из-за настроя их исторических эпох.
В ситуации постмодерна и даже нынешнего пост-пост-модерна развалины — то есть буквально явленный нам «культурный слой», находящийся, правда, выше уровня земли — кажется одним из последних прибежищ аутентичности.
Во времена симулякров, тотальных подмен и манипуляций эти знаки подлинности выполняют роль уже даже не прорех во времени или мостков в прошлое, а пропуска в настоящее настоящее, позволяющего максимально близко подойти к неподтасованной реальности.
Руина воспитывает нас видеть красоту во всем — в техногенных остовах долгостроя, заросшего лебедой, а также в любых лакунах и зияниях, следах разрушения и упадка. Совсем как при любовании антиками, когда «следы веков» и разрушений входят в обязательный репертуар и дополнительные поводы для эстетических переживаний. Мало ведь кто представляет теперь мраморных Венер с руками и ликами, раскрашенными разноцветными пигментами.
Фрагменты строений сочатся меланхолической суггестией, оказываясь пунктуационными знаками актуальных трендов. «Неприкосновенный запас», оперативно отслеживающий интеллектуальные моды и пытающийся опередить дискурсивный запрос, неслучайно посвятил ностальгии и меланхолии один из самых удачных номеров.
Статья Шёнле обрамляется здесь, например, эссе «Психоанализ руин» дублинского феноменолога Дилана Тригга, фрагментом книги Светланы Бойм «Будущее ностальгии», а также текстами Александра Чанцева «Японское меланхоличное», Алексея Левинсона «Депрессия и страх».
Состояние мира, выскочившего из пазов бинарных оппозиций и максимально усложнившегося в последние десятилетия, переполнено эсхатологических страхов и упаднических умонастроений, вызывающих эмоциональные выгорания и хронические депрессии.
В последние годы, помимо журнального выпуска, все то же «Новое литературное обозрение» выстрелило целой обоймой книг, рефлексирующих над меланхолией в разных ее изводах. От фундаментальных «Чернил меланхолии» Жана Старобинского (2016), изучающих первоисточники, причем не столько литературные, сколько научные (в первую очередь, медицинские), до «Человека без содержания» Джорджо Агамбена (2018), настоянной на ощущении хронического надрыва.
От «Кривого горя» Александра Эткинда (2016), описывающего невротические реакции советского искусства на непохороненные и до сих пор не переработанные травмы отечественной истории ХХ века до простодушной и прямолинейной (потому что научпоповской) «Истории меланхолии» Карин Юханнисон (2011).
Пафос книги Шёнле, впрочем, ближе к штудиям, посвященным современным разработкам в русле «исторической памяти» и «мемориальной культуры», связанным с двумя недавними монографиями немецкой исследовательницы Алейды Ассман.
Ее «Новое недовольство мемориальной культурой» (2016) и «Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима Модерна» (2017) пытаются нащупать новые черты коллективной памяти, завязанной на изменение ощущения текущего времени. С концом эпохи модерна оно, окончательно лишившись линейности, изменилось коренным образом, став индивидуальным темпоритмом любой автономно чувствующей личности.
Нынешняя повсеместная хандра, напрочь сплетенная с хтонической усталостью и симптомами «конца истории» (то есть «больших нарративов», при том что жизнь уже давно доказала преждевременность выводов Фрэнсиса Фукуямы), вызвана, помимо прочих уважительных причин, еще и ощущением опоздания, заставляющего жить современного человека будто бы «после всего».
То, что поэт-концептуалист Владимир Друк описал в стихотворении «Орлята», посвященном Алексею Есенину.
после двадцать шестого
после тридцать седьмого
после сорок восьмого
после снова и снова
 Иосиф Бродский, один из главных героев книги Шёнле, тоже печалился от безнадеги: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я…»
Иосиф Бродский, один из главных героев книги Шёнле, тоже печалился от безнадеги: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я…»
Однако на фоне нынешней безраздельной бесцельности его ситуация выглядит просто-таки аллегорией оптимизма: наш век еще только начался, поэтому кончаться, по очереди, мы будем в окончательном нигде.
С со всеми этими книгами о современной реинкарнации декаданса, спустившегося с элитных небес в самую гущу массового сознания, есть правда одна проблема: предмет их описания будто бы ускользает от окончательной фиксации и виден «как сквозь тусклое стекло».
Прочитав тысячи плотных страниц, так и остаешься голодным: очень уж тонких материй касаются авторы, но как-то, видимо, прямолинейно и в лоб.
Для улавливания и понимания специфики современного сплина, вероятно, нужен какой-то конгениальный перпендикуляр — интонационный ход, обеспечивающий, скажем, нынешнюю моду сочинениям Винфрида Георга Макса нашего Зебальда или, например, Алексея Макушинского.
Книга Шёнле (коллекция статей, где каждая описывает отношение к руинам в важные и переломные эпохи русской истории) ближе к варианту Жана Старобинского, а также Алейде Ассман — своим гуманитарно-гуманистическим пафосом: рефлексия и описание, сохранение и консервация руин в конечном итоге оказываются важнейшими чертами современной мемориальной культуры, необходимой людям не только для того, «чтобы помнили», но и для того, чтобы продолжали считать себя человеками.
Чтобы по дороге в будущее не растратили и не растеряли важнейших черт из набора своей антропологической корзины.
Особенности русской истории заключаются в отсутствии непрерывности — Шёнле приводит слова Батюшкова и Чаадаева об ощущении перманентной зыбкости под ногами.
Им вторят гости вроде Маркиза де Кюстина, удивлявшегося отсутствию древностей, замененных симулякрами.
Пожар Москвы 1812 года, с одной стороны, подчистил аутентичный вид города, с другой — позволил продвинутым эстетам вроде Пьера Безухова насладиться видом погорелых остатков, а с третьей — включить события Отечественной войны в систему общекультурных кодов: от библейских, с разрушением Иерусалимского храма, до античных — ну да, да, с разрушением Геркуланума и Помпей.
Культ старины в стране возникает лишь в конце XIX века, чтобы реконструкторы из «Мира искусства» могли сочинить идеализированную Россию разрушающихся помещичьих усадеб и скоротечного Золотого века, из которого важно быть вовремя изгнанным.
Даже революционный авангард, сбрасывающий классику с парохода современности тем не менее учитывает культурное наследие, чтобы не зависнуть без него в окончательной безвоздушности.
«Действуя во имя прогресса и стараясь упрочить лежащую в его основе практику демистификации, модерность оказывается диалектически связана с тем прошлым, которое хочет преодолеть, и это приводит к бесконечно повторяемым актам иконоклазма».
Запустение полуразрушенного Петрограда после революции и выживание опустошенного Ленинграда, окруженного сожженными дворцами-музеями пригородов в Блокаду, продолжает на новом этапе тенденцию имитационного восстановления.
Только если раньше древние соборы (особенно сильное впечатление производит кейс Десятичной церкви — первого каменного строения Киева, построенного князем Владимиром в ознаменование Крещения Руси, но подчистую снесенного в XIX веке, чтобы на ее месте Василий Стасов мог построить храмовую имитацию идеального «русского стиля»; очень жаль, что рисунок разрушений Десятичной церкви 1826 года, опубликованный в меланхолическом номере «Неприкосновенного запаса», выпал из книги) сносились подчистую, вне своей сакральной значимости, уступая место новостроям, то теперь в СССР озаботились точным, точечным копированием оригиналов.
«Характерно, что восстановление происходило в Ленинграде гораздо быстрее, чем во Франции, Англии или Германии. В отличие от этих стран, где была принята политика совмещения реконструкции и новых построек в зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая, ленинградцы оказывались верны принципу точной факсимильной реконструкции…»
Чтобы уже ничто не напоминало ленинградцам, несвоевременно возгордившимся своим городом-героем, ни о страданиях, ни о подвигах, ни тем более об утратах: «государственное принуждение к забыванию» (Лиза Киршенбаум) — один из осевых лейтмотивов «Архитектуры забвения».
Но не единственный. Восемь глав ее — восемь сюжетов (причем не всегда таких очевидных, как пожар Москвы или же «Последний день Помпеи»), характеризующих ментальные конструкции ключевых эпох российской истории Нового времени.

Москва, 24 сентября 1812 год. Художник Х.В. Фабер дю Фор. 1830-е гг.
Фото: 1812.nsad.ru
То есть, видимо, первоначально Шёнле находил «нерв» того или иного периода, потом способ, каким руины говорят с человеком и обществом через основного медиума предромантизма, романтизма, модерна, модернизма или постмодерна, а затем создает эффектные цепочки доказательств — остроумные многоходовки, включающие произведения искусства самых разных видов и жанров.
Для создания образа погибающего города в главе «Руины Ленинграда времен блокады и эстетика борьбы за выживание» цензура в кинодокументалистике и приемы «лакировки действительности» Романа Кармена (а также фотографии кроватей фотографа Бориса Смирнова, открытого «Галереей Галеева» десять лет назад) важны не меньше, чем гравюры Анны Остроумовой-Лебедевой и Павла Шиллинговского.
По крайней мере, шпиономания в осажденном городе и нарратив о проработках сценария Всеволода Вишневского, в конечном счете отстраненного от съемок «фильма о великом Ленинграде» занимают в главе гораздо больше места, чем развернутые экфрасисы.
Междисциплинарный подход, основанный на тончайших связях и невидимых отсылках, позволяет Андреасу Шёнле порой делать парадоксальные выводы. Так, виды Москвы в «Бедной Лизе» европейца Карамзина на самом деле оборачиваются неприятием Просвещения и надвигающейся модернизации.
Одну из идей главы «Уроки московского пожара 1812», базирующейся на анализе фрагментов романа Михаила Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году», пушкинского отрывка «Рославлев» и главного эпоса Льва Толстого о руинах как знаках утерянного целого, сохранивших «бесценные остатки прошлого — высвобождающих энергию, необходимую современникам для основ своей жизни», исследователь переносит затем и в советское время — в части книги, касающиеся послереволюционных лишений (их у Шёнле символизируют городские виды, в основном созданные Мстиславом Добужинским) да беспрецедентного блокадного опыта.
Часть «Эстетика и политика в романтической моде на руины» логично отдана картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи», составившей отдельный период в истории русского искусства. Шёнле не только вдохновенно разбирает на части само полотно (и это один из самых изящных экфрасисов последнего времени), но и находит неожиданные повороты в, казалось бы, совершенно прозрачных реакциях на него Александра Пушкина и Николая Гоголя.
К гоголевской интерпретации картины Брюллова Шёнле заходит через описание римских развалин в повести «Рим» и через трактовку запущенного домашнего хозяйства Плюшкина в «Мертвых душах». «Плюшкин похож на барочного художника в трактовке Вальтера Беньямина: перед нами человек, одержимый идеей мимолетности жизни, бесцельно нагромождающий фрагменты и осколки и лелеющий смутную надежду, что какое-то чудо задним числом оправдает его усилия».
И хотя чуда не происходит, «Гоголь эстетизирует обветшание — он и есть один из главных пропагандистов западной поэтики руин…». С Пушкиным еще интереснее. Лексический анализ стихотворного отрывка «Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя…» (1836) и фразы из него «Кумиры падают!» позволяет протянуть интертекстуальные цепочки к текстам, над которыми поэт работал в то же самое время.
К «Медному всаднику» и его «концу мифа об Александре I и хрупкости Российского государства…»: «Размышляя о природе власти, Пушкин совмещает события 1779, 1812 и 1824-го годов, причем рассказ о разрушении Помпей выступает как поучительная история-предостережение, повествующая о внезапном крушении великой цивилизации: подобная судьба может ждать и Россию».
Мне нравится, что Шёнле жонглирует анализом самых разных медиумов, словно бы не решаясь остановиться на каком-то из них окончательно.
Он использует прозаические «описания руин, стихи, карты, гравюры, картины, фотографии, фильмы, ныне существующие здания, художественные инсталляции…» и делает это сознательно, так как в предисловии предупреждает: «Первые главы по своим источникам стоят ближе к литературе, но по мере приближения к ХХ веку все более значительную роль будут играть обширные визуальные материалы, хотя литературные источники и не исчезнут полностью. Это не значит, что руины не функционировали в качестве визуальных знаков до появления механических средств репродуцирования».
Ибо «Архитектура забвения» — не очерки визуальности или же суховатые литературоведческие выкладки, но именно что объемные интерпретации ключевых исторических периодов. Время здесь важнее артефактов — остаточных явлений разных эпох, засиженных принудительной музеефикацией. Поэтому одна из задач английского исследователя — дать свежие, остроумные трактовки окончательно хрестоматийным авторам и их творениям.
Книга так и качается между означащим и означаемым, словесностью и искусством, поэзией и прозой, ее главные герои — Петербург/Ленинград и Москва, основные скопления архитектурных или же литературных сюжетов русской культуры.
Завершает «Архитектуру забвенья» остроумная рифма, снимающая противопоставление между словесным и визуальным творчеством. Это происходит в предпоследней главе («Руины как переход к вневременности в поэзии Иосифа Бродского»), плавно переходящей в актуализированный эпилог («Руины как альтернативная реальность. „Бумажные архитекторы” и жизненная сила разрушения»), в центре которого описание стратегий Петра Белого, Михаила Филиппова, Ильи Укина, но особенно Александра Бродского.
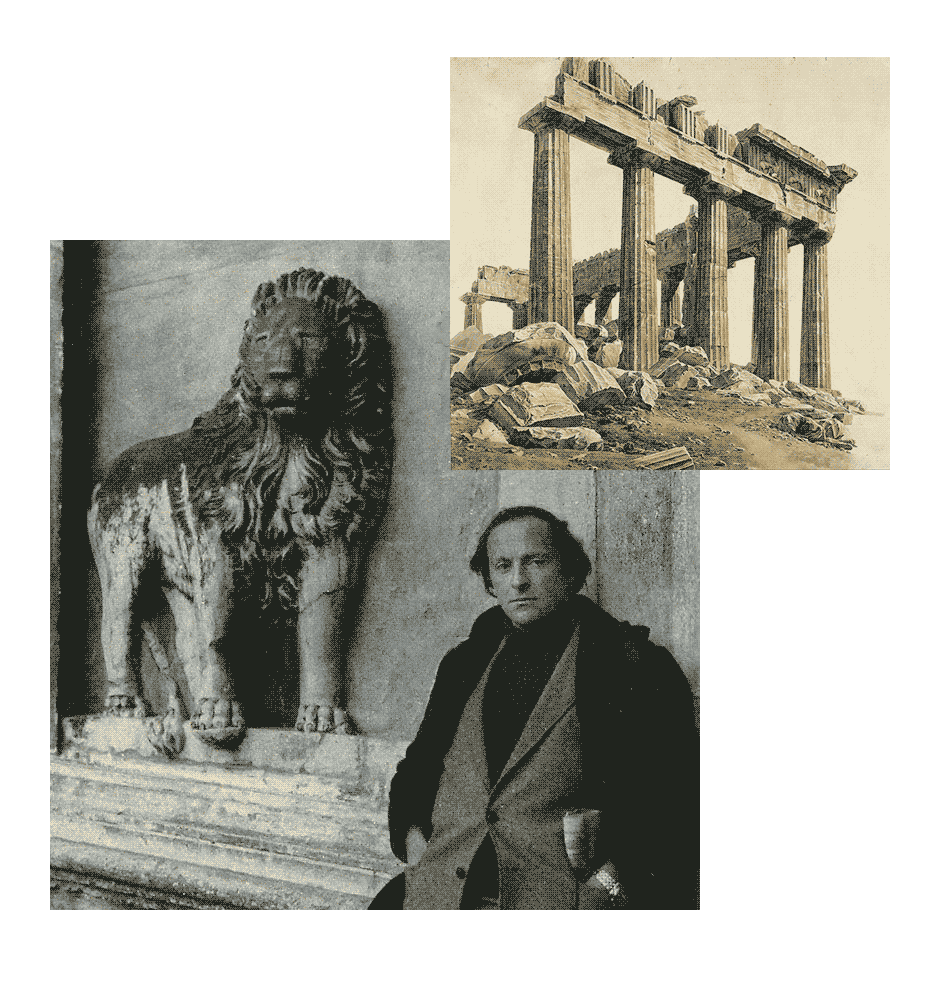
Именно его инсталляция «Кома» (2000) из «Галереи Марата Гельмана» — макет города, распластанного на хирургическом столе в окружении капельниц, из которых постоянно сочится нефть, постепенно затопляющая игрушечный ландшафт — оказывается близкой не только эстетике руин фильмов Андрея Тарковского «Сталкер» (1979) и «Ностальгия» (1982), общему градусу меланхолии современной культуры, но и вневременному окоченению органических и неорганических тел в стихах его однофамильца. Шёнле рассказывает о знакомстве двух Бродских в Нью-Йорке, чтобы качели между литературой и искусством схлопнулись, перестав зеркалить.
Англичанин, десятилетиями дотошно копающийся в русском хламе и понимающий его лучше большинства аборигенов, не может не быть темпераментным и увлеченным человеком со своеобразным чувством юмора.
Одухотворяя мертвые камни, он наделяет наши культурные символы дополнительной антропоморфностью, когда находит в них собственное какое-то бытие.
Подобно людям, руины имеют начало и конец, бывают востребованы или пребывают в окончательном небрежении, растут, развиваются, разваливаются, десятилетиями существуя в таком виде, далеком от совершенства, пока не исчезнут, обратившись в прах.
Однако открыто выказывать субъективность для ученого — дурной тон: несмотря на расхристанные «объекты исследования», сам Андреас Шёнле должен быть застегнут на все пуговицы и предельно корректен.
Единственная слабость избыточного жеста, которую он может себе позволить, проступает в «композиционном решении». Ведь обычно на него мало кто обращает внимание.