Чему могут научить нас древнеисландские сказители
Проверено временем: о книге Михаила Стеблин-Каменского «Мир саги»
Чтобы разобраться в сюжетах и персонажах древнеисландских саг, необходимо понять, как люди раннего Средневековья относились к правде, лжи и убийству. Именно этому посвящена книга классика отечественной скандинавистики Михаила Стеблин-Каменского, о которой для совместного проекта «Горького» и премии «Просветитель» рассказывает Игорь Мокин.
Михаил Стеблин-Каменский. Мир саги. М.: Наука, 1971
 Книгу «Мир саги» написал крупный советский филолог, один из основателей нашей скандинавистики Михаил Иванович Стеблин-Каменский (1903—1981). Он занимался, пожалуй, всеми главными направлениями древнескандинавской филологии: от фонетики и морфологии языка до устройства и эволюции литературных форм. И научные, и популярные работы Стеблин-Каменского выходили как в СССР, так и за рубежом; «Мир саги» был переведен на несколько языков и в том числе на исландский, то есть на язык «героев» этой книги. (В области изучения культуры Исландии железный занавес не был столь непроницаем; этому способствовали тесные контакты с СССР исландских левых политиков и активистов, в том числе крупнейшего писателя современной Исландии Хальдоура Лакснесса.)
Книгу «Мир саги» написал крупный советский филолог, один из основателей нашей скандинавистики Михаил Иванович Стеблин-Каменский (1903—1981). Он занимался, пожалуй, всеми главными направлениями древнескандинавской филологии: от фонетики и морфологии языка до устройства и эволюции литературных форм. И научные, и популярные работы Стеблин-Каменского выходили как в СССР, так и за рубежом; «Мир саги» был переведен на несколько языков и в том числе на исландский, то есть на язык «героев» этой книги. (В области изучения культуры Исландии железный занавес не был столь непроницаем; этому способствовали тесные контакты с СССР исландских левых политиков и активистов, в том числе крупнейшего писателя современной Исландии Хальдоура Лакснесса.)
О чем эта книга и чем она интересна спустя полвека после выхода ее первого издания в 1971 году? Материалом для нее послужили исследования древнеисландских саг — особого жанра средневековой литературы, представляющего собой рассказы о жизни знаменитых предков. Читателю подготовленному, литературоведу, будет важно, что в ней в сжатом и популярном виде изложены те идеи, которые задали исследовательскую программу отечественной скандинавистики в этой области вплоть до наших дней. Читатель, интересующийся Средними веками вообще — а о нынешней волне этого увлечения специально говорить не надо, — найдет в книге живой рассказ о том, как средствами гуманитарных наук можно составить представление о средневековом мировоззрении. Но в «Мире саги» есть и нечто большее, что может оказаться интересным для многих именно сейчас.
В первую очередь это размышления о природе правды — не философской истины, а правды в повседневном смысле слова: соответствует сообщение действительности или нет. Мы уже привычно пользуемся понятием постправда, рассуждаем о ее роли в нашем обществе; а автор «Мира саги» строит гипотезу о том, как выглядела, скажем так, предправда, существовавшая до появления перекрестных ссылок, датировок и строгого научного метода.
Михаил Стеблин-Каменский начинает с утверждения, что для современного человека фактическая правда, то есть строго установленная истина, отделена от художественной правды, то есть вымысла, призванного «вызвать яркое и живое представление о действительности прошлого, а не сообщить о нем точные сведения». Далее он пишет: «Если же художественная правда принимается за правду в собственном смысле слова, как это бывает, например, с детьми, то для современной цивилизации это пережиточное явление, реликт того состояния сознания, когда еще не было деления на две правды» (курсив наш). С приходом массовых коммуникаций это утверждение стало выглядеть угрожающе шатким: сейчас «альтернативную правду» в сознании масс неустанно создают и развлекательная культура, и официальная пропаганда, а также ее зеркальные отражения в виде домыслов о заговорах и псевдохронологий. Мы вступили в эпоху, которую Стеблин-Каменский предвидеть не мог, однако в момент перехода к новому бытованию правды тем ценнее взгляд ученого на предыдущую стадию ее эволюции.
Как же выглядела эта древняя правда? Стеблин-Каменский выдвигает понятие синкретической, то есть цельной и неразрывной, правды, которая не совпадает с понятными нам концепциями научного факта и художественного вымысла и даже не раскладывается на них нацело. Наиболее близким аналогом ее, утверждает автор, можно назвать даже не фольклор в его узком понимании, а устную историю: рассказы из личного опыта, пересказ бытовых разговоров, когда новые — в строгом смысле вымышленные — детали вставляются в повествование неосознанно. Заметим, что это явление хорошо знакомо современным антропологам, психологам и нейробиологам: память в известном смысле пластична, каждое припоминание по сути является «перезаписью данных». Фактически вымысел имеет место, но он скрыт, не осознан. Такая правда, которую мы иногда видим уже и в новостях, не говоря о повседневной жизни, в чем-то близка к правде саги. Однако есть и ключевое различие: «...все саги — это повествования о прошлом... В повествованиях о настоящем вымысел очевиден, каким бы правдоподобным он ни был». Для средневекового слушателя саг синкретическая правда всегда относится к прошлому, потому что о настоящем у него есть точные сведения: я не приму за чистую монету рассказ о вымышленных соседях, ведь я знаю всех своих соседей. Но если это было столько-то поколений назад, то можно спросить потомков героя, и все эти потомки подтвердят: да, был такой наш прадедушка. А что конкретно он сказал в своем последнем бою, как был одет и кого в каком порядке ударял мечом, можно додумать, и это будет частью правды (романы же и рассказы о героях нашего времени — достижение новой литературы):
«Вот Хельги наступает с той стороны, где ему кажется вернее, и в руке у него большая секира. Гисли был снаряжен так: в руке — секира, у пояса — меч и сбоку — щит. Он был в сером плаще и подпоясался веревкой. Хельги устремляется вперед и взбегает на скалу, прямо на Гисли. Тот мигом поворачивается навстречу Хельги, заносит меч и рубит его наотмашь по поясу и перерубает надвое, и обе части падают со скалы». (Сага о Гисли, пер. О. А. Смирницкой)
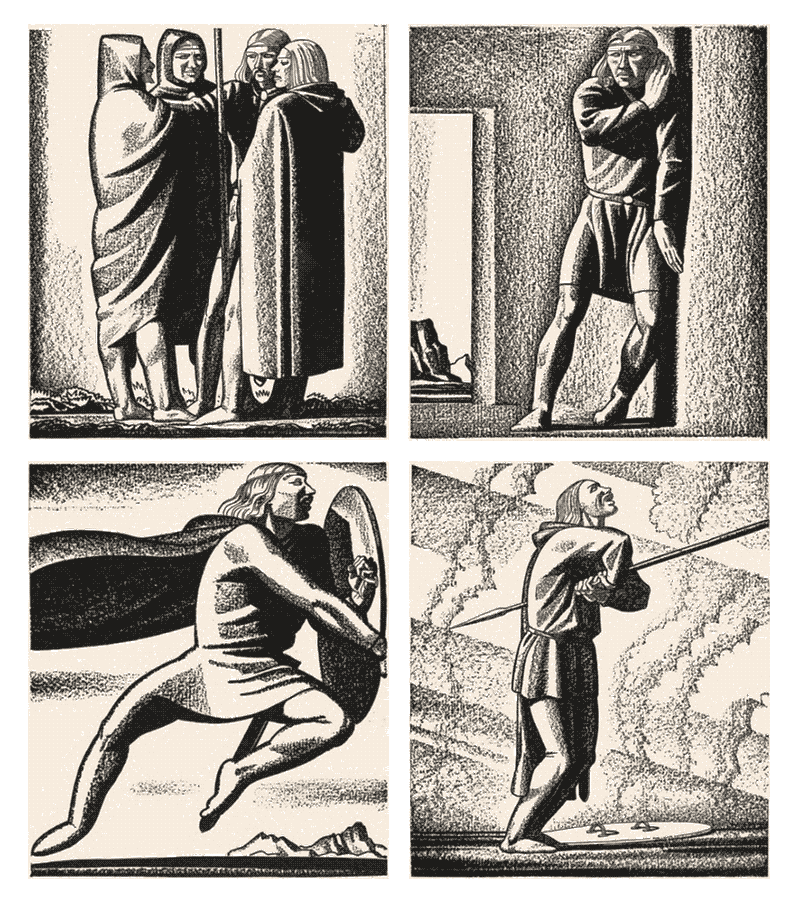 Подобным образом вели себя амазонские индейцыСм. напр.: Эверетт Дэниел. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей. М.: Языки славянской культуры, 2016. Перевод с английского Игоря Мокина, Павла Дронова, Евгения Панова., впервые услышав от миссионера об Иисусе: если ты не видал его и твой отец с дедом не видали, то и не было никакого Иисуса. В их синкретическую правду этот рассказ не вписывается, а значит, такого просто не бывает. Отличие мира индейцев от мира саг в том, что средневековые исландцы все же признавали в историях о прошлом возможность явного вымысла наряду с синкретической правдой. Есть саги, где действуют драконы и волшебники, где герои воюют с армиями мертвецов, а люди могут обернуться волками и медведями (это один из прямых источников нынешнего фэнтези). Но для исландцев это были «лживые саги». Закономерным образом эти саги легче разъять на мотивы и структурные элементы, чем саги «правдивые». При этом, как правило, чем дальше отнесено действие саги во времени и пространстве, тем больше в ней «лжи». Впрочем, живые мертвецы попадаются и в «правдивых» сагах, так что граница тут все же проницаема.
Подобным образом вели себя амазонские индейцыСм. напр.: Эверетт Дэниел. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей. М.: Языки славянской культуры, 2016. Перевод с английского Игоря Мокина, Павла Дронова, Евгения Панова., впервые услышав от миссионера об Иисусе: если ты не видал его и твой отец с дедом не видали, то и не было никакого Иисуса. В их синкретическую правду этот рассказ не вписывается, а значит, такого просто не бывает. Отличие мира индейцев от мира саг в том, что средневековые исландцы все же признавали в историях о прошлом возможность явного вымысла наряду с синкретической правдой. Есть саги, где действуют драконы и волшебники, где герои воюют с армиями мертвецов, а люди могут обернуться волками и медведями (это один из прямых источников нынешнего фэнтези). Но для исландцев это были «лживые саги». Закономерным образом эти саги легче разъять на мотивы и структурные элементы, чем саги «правдивые». При этом, как правило, чем дальше отнесено действие саги во времени и пространстве, тем больше в ней «лжи». Впрочем, живые мертвецы попадаются и в «правдивых» сагах, так что граница тут все же проницаема.
Одним из самых весомых аргументов Михаила Стеблин-Каменского становится языковой: в древнеисландском языке просто не было слов «автор», «сочинитель», «сочинять» в общем значении. Было лишь конкретное «слагать стихи». Факт создания нового произведения — факт авторства — признавался, таким образом, лишь за поэтами-скальдами; неслучайно даже в современном исландском языке понятие «роман» описывается сложным словом «скальд-сага», то есть авторское повествование. При этом поэзия скальдов была еще более далека от сознательного художественного вымысла, чем саговый рассказ: певец был обязан восхвалять реальные подвиги вождей (или собственные), а не выдумывать их — последнее было бы оскорбительно. Об этом прямо пишет средневековый источник: «...хотя у скальдов в обычае всего больше хвалить того правителя, перед лицом которого они находятся, ни один скальд не решился бы приписать ему такие деяния, о которых все, кто слушает, да и сам правитель знают, что это явная ложь и небылицы. Это было бы насмешкой, а не хвалой». (Снорри Стурлусон. Круг земной, Пролог, пер. М. И. Стеблин-Каменского) Поэтому большинство стихов скальдов сейчас вообще не кажутся поэзией: их содержательные аналоги в нашей культуре — это репортаж с футбольного матча и некролог.
В отличие от скальда, гордящегося своим мастерством создавать уникальный текст на основе привычных клише, «автор» саги практически всегда анонимен. Мы знаем имена десятков скальдов, но всего нескольких составителей саг, и то, как замечает Стеблин-Каменский, они встречаются не вместе с названием саги, как в современной литературе, а скорее как часть ссылочного аппарата: эту сагу рассказал или записал такой-то, а он узнал у сведущих людей. Тот, кто рассказал сагу в том варианте, в котором она попала в манускрипт, не считал себя, да и не мог быть, ее автором в нынешнем понимании. Сага складывалась постепенно. Конкретный рассказчик мог быть особенно талантлив и потому мог оставить самый большой след в структуре и облике саги, но он не был ее сочинителем в полном смысле слова. До нас дошли более и менее «литературно» искусные саги, в них даже могут быть так или иначе узнаваемы влияния европейских жанров вроде рыцарского романа, но это еще не авторское творчество. Это момент перехода от сказителя к автору, рождение собственно литературы. Оно происходит вместе с изменением понятий о правде.
 Стоит заметить, что вопрос об авторстве саг стал одним из главных пунктов, в которых отечественная скандинавистика выделяется среди научных школ. И скандинавские, и американские ученые сейчас в основном придерживаются мнения, что у каждой саги есть один конкретный сочинитель. В этой связи они не прибегают специально к концепции синкретической правды и предпочитают исследовать саги как чисто литературные сюжеты. Вообще, в мировой науке наблюдается медленное движение от теорий «традиционности» к теориям «авторства» саг и обратно, но последние полвека маятник уверенно идет в сторону концепции авторских саг; ученики Стеблин-Каменского оказались в меньшинстве.
Стоит заметить, что вопрос об авторстве саг стал одним из главных пунктов, в которых отечественная скандинавистика выделяется среди научных школ. И скандинавские, и американские ученые сейчас в основном придерживаются мнения, что у каждой саги есть один конкретный сочинитель. В этой связи они не прибегают специально к концепции синкретической правды и предпочитают исследовать саги как чисто литературные сюжеты. Вообще, в мировой науке наблюдается медленное движение от теорий «традиционности» к теориям «авторства» саг и обратно, но последние полвека маятник уверенно идет в сторону концепции авторских саг; ученики Стеблин-Каменского оказались в меньшинстве.
Несколько глав книги посвящены реконструкции психологии слушателей саг, живших почти тысячу лет назад. Современному читателю будет интересно узнать, как из текста саг можно сделать вывод о восприятии личного и общественного, пространства и времени их слушателями в Средние века. «Мир саги» показывает некоторые стереотипы, сложившиеся в нашем понимании прошлого, и снимает их; впрочем, внимательное чтение покажет, что, например, трактовка средневекового христианства в книге заметно упрощена (однако это явно след эпохи).
Михаил Стеблин-Каменский подчеркивает, что людей прошлого не стоит «модернизировать», и делает акцент на различиях в мировоззрениях средневекового и современного человека. Эти различия проявляются особенно четко в отношении к собственной смерти и в понимании убийства. На примерах из текстов он показывает, что средневековые исландцы осознавали убийство из мести как долг, необходимый для поддержания жизнеспособности общества. Но сага не боевик, она не романтизирует насилие, в отличие от поздних упрощенных картинок со средневековым антуражем. В условиях, когда нет привычной нам государственной системы, а есть только «суд равных себе», месть становится частью схемы поддержания равновесия и вводится в рамки закона. Герои саг удостаиваются похвалы, если вершат месть, одобренную обществом, и порицания, если месть неправомочна или превышает принятые масштабы.
В последней главе книги Стеблин-Каменский предлагает мысленный эксперимент по остранению. Эта глава — аллегорический рассказ: автор будто бы встретил призрак древнего исландца и познакомил его с современным обществом и литературой. С помощью этого приема автор формулирует свою концепцию древнеисландской картины мира во всей полноте и, конечно, дает читателю взглянуть на себя со стороны.
В чем смысл описанной в книге попытки приблизиться к миру средневекового человека и понять его взгляд на правду и вымысел? В поиске тех аспектов прошлого, которые могли со временем стереться, утверждает Михаил Стеблин-Каменский. История литературы, да и всякого творчества, — процесс не линейно-прогрессивный, в ней новое не обязано быть улучшенной версией старого. Идеи и опыт прошлого не менее ценны, чем сегодняшние; они могут потеряться, но благодаря литературе их можно открыть заново и если не оживить, то хотя бы постараться понять. Филологический анализ оказывается частью антропологического метода и дает возможности как для научного познания, так и для взгляда вглубь себя.