Человек под колесами истории
О книге Ирины Паперно «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах»
В «Новом литературном обозрении» вышла монография Ирины Паперно «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах» — небольшое по объему, но весьма разнообразное по содержанию исследование повседневности через призму автобиографических текстов граждан СССР. Константин Митрошенков рассказывает для читателей «Горького» о несомненных достоинствах и досадных недостатках этой книги.
Ирина Паперно. Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание
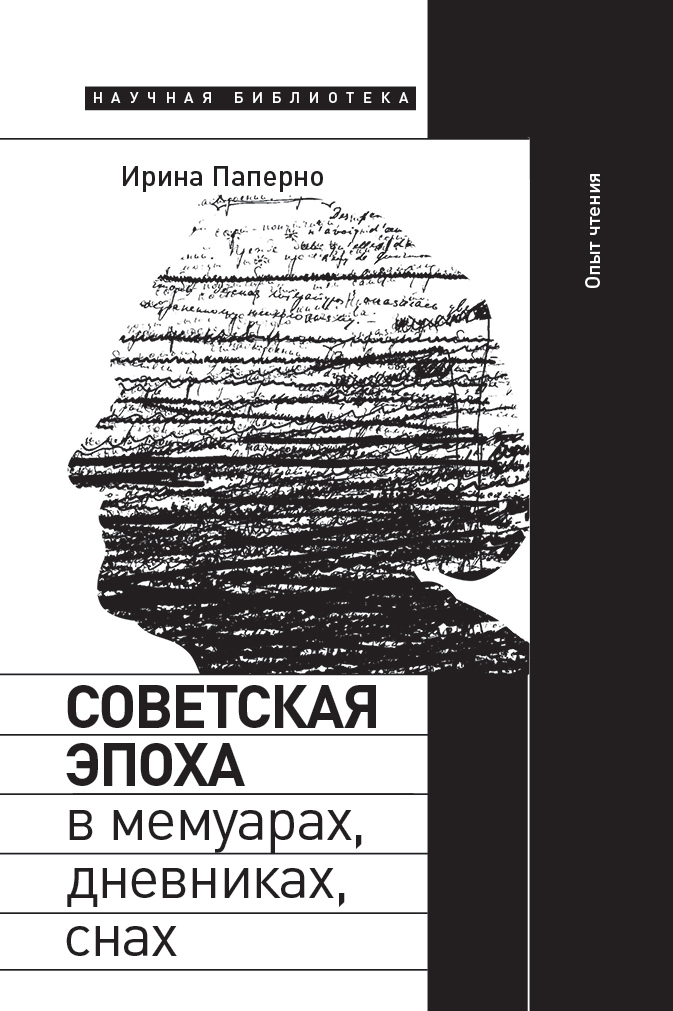 В центре внимания Ирины Паперно — дневники и мемуары, рассказывающие о советской эпохе и опубликованные преимущественно в 1980–1990-е годы. В отличие от многих исследователей, Паперно отказывается проводить строгое разграничение между этими двумя жанрами. Она использует собирательное понятие «мемуарно-биографические тексты», «понимая под этим различные повествования, отслеживающие развитие своего автобиографического „я” во времени, будь то в ретроспективной форме воспоминаний или в хроникальной форме дневника». Свое решение Паперно объясняет тем, что авторы, к чьим текстам она обращается, сознательно или нет совмещали обе временные перспективы и повествовательные стратегии.
В центре внимания Ирины Паперно — дневники и мемуары, рассказывающие о советской эпохе и опубликованные преимущественно в 1980–1990-е годы. В отличие от многих исследователей, Паперно отказывается проводить строгое разграничение между этими двумя жанрами. Она использует собирательное понятие «мемуарно-биографические тексты», «понимая под этим различные повествования, отслеживающие развитие своего автобиографического „я” во времени, будь то в ретроспективной форме воспоминаний или в хроникальной форме дневника». Свое решение Паперно объясняет тем, что авторы, к чьим текстам она обращается, сознательно или нет совмещали обе временные перспективы и повествовательные стратегии.
Впрочем, Паперно больше интересуют не жанровые особенности текстов, а намерения людей, их создавших. Исследовательница отвергает «скептицизм по отношению к человеку как субъекту знания, свойственн[ый] гуманитарным дисциплинам эпохи постмодерна» и фокусируется на «самопонимании и самоинтерпертации жизненного опыта советского человека, каким он предстал в дневниках и мемуарах».
Автобиографические тексты советской эпохи Паперно рассматривает как выражение особого типа исторического сознания, укорененного в русской интеллектуальной традиции и гегельянской философии истории. Отличительная черта такого сознания — стремление осмыслять свой личный опыт в контексте более широких исторических процессов и восприятие истории как неумолимого процесса, перемалывающего человеческие судьбы. В русской рецепции гегельянского историзма, по мнению Паперно, важнейшую роль сыграл Герцен и его автобиографическая книга «Былое и думы». Исследовательница несколько раз цитирует определение, которое дал ей сам Герцен: «[Это] не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно [курсив оригинала] попавшемся на ее дороге».
Вписывая себя в более широкий исторический контекст, автор преподносит интимные подробности своей биографии как исторические свидетельства и утверждает ценность собственного опыта. Как отмечает Паперно, в советских автобиографических текстах связующим звеном между частным и общим обычно оказывается «катастрофический исторический опыт» — такой как государственный террор или война.
Герои и героини Паперно — те самые люди, попавшиеся на дороге истории (или попавшие ей под колеса, если использовать другую популярную метафору). Книга разделена на четыре части. В первой части Паперно излагает основные методологические соображения, а в оставшихся трех применяет их на практике. Ее основные источники — «Записки об Анне Ахматовой» писательницы Лидии Чуковской, автобиографические записки пенсионерки Евгении Киселевой и корпус дневниковых записей и воспоминаний о снах в период сталинских репрессий.
Историзируя свою жизнь
Лидия Чуковская и Анна Ахматова были близкими подругами. Они вместе пережили большой террор 1930-х годов, войну и эвакуацию. Все это время Чуковская тщательно документировала жизнь подруги, создавая дневник «несобственной жизни».
Паперно прослеживает, как с течением времени менялись отношения подруг и на материале записей Чуковской реконструирует повседневную жизнь Ахматовой в 1930–1950-е гг., в которой тесно сплелись привычки богемной юности, специфический коммунальный быт и постоянная угроза, связанная сначала с возможностью ареста, а после — с войной. Паперно отмечает, что Чуковская и Ахматова осмысляли свой опыт (даже самый интимный) в исторической перспективе.
Наиболее явным образом это проявляется в записях, посвященных террору. Двое из трех мужей Ахматовой были репрессированы, ее единственный сын Лев Гумилев провел в заключении более десяти лет; муж Чуковской, физик Матвей Бронштейн, был расстрелян в 1938 году. Подруги много спорили о поведении людей в условиях репрессий. В послевоенный период, став свидетельницами травли Пастернака и Бродского (1958-й и 1964 год соответственно), они сравнивали эти события с собственным опытом 1930-х гг.: «Обстоятельства были другими, но чувства казались теми же... Шестидесятые и тридцатые были связаны общими эмоциями».
Аналогичное стремление соотнести свою частную жизнь с историей страны Паперно обнаруживает и в автобиографических записках Евгении Киселевой, жительницы небольшого шахтерского города в Украине. Киселева написала сценарий для фильма о собственной жизни, охватывающего период с начала Великой Отечественной войны по середину 1970-х годов. Она отправила рукопись на киностудию и в ожидании ответа продолжила документировать свою жизнь. Женщина скончалась в 1990 году, оставив после себя три тетради автобиографических записок.
Фильм по сценарию Киселевой так и не сняли, но в 1991 г. ее рукопись в значительно отредактированном виде была опубликована в журнале «Новый мир». После этого ее записки привлекли внимание исследователей. В 1996 году социолог Наталья Козлова и лингвист Ирина Сандомирская опубликовали оригинальную рукопись Киселевой, предложив свое прочтение этого текста.
Козлова и Сандомирская характеризовали письмо Киселевой как «наивное» и подчеркивали, что женщина не выстраивает «нарратив в соответствии с линейным временем» и не соотносит события своей жизни с «Большой Историей». Паперно полемизирует с предшественницами и доказывает, что Киселева обладала историческим сознанием и стремилась историзировать свою жизнь: «Киселева строит историю своей жизни как укорененную и обусловленную войной, а именно событием общенационального, исторического и апокалиптического значения. Пользуясь разными приемами... обрамляя всю историю своей жизни историческими событиями... автор этого текста связывает личное и общее».
В числе прочего Паперно критикует своих предшественниц за то, что они решили опубликовать неотредактированную версию записей Киселевой. По мнению Паперно, сама женщина «приветствовала редакторскую правку», которая позволила бы ее запискам на равных существовать среди других автобиографических текстов, опубликованных на закате советской эпохи. Козлова и Сандомирская лишают Киселеву такого права, отправляя ее текст в резервацию под названием «наивное письмо».
Концепцию «наивного письма», как и другие теоретические модели, можно и нужно критиковать. Проблема в том, что Паперно игнорирует (хотя и цитирует соответствующие фрагменты) аргумент исследовательниц о том, что редактор «Нового мира» фактически переписал текст Киселевой, подогнав его под стереотипное представление о народной культуре. Отвечая на замечания Паперно, Сандомирская справедливо заметила: «Язык не является нейтральным средством для описания объективной действительности, и его нельзя подправить, не отредактировав при этом его реальности».
Здесь мы подходим к важному недостатку работы — Паперно часто некритически относится к изучаемым текстам. Так, анализируя записки Чуковской об Ахматовой, она сообщает, что первая их часть, рассказывающая о событиях конца 1930-х годов, была отредактирована, снабжена примечаниями и подготовлена к печати самой Чуковской в 1960–1990-е годы. При этом Паперно не проблематизирует огромный зазор между временем написания и редактирования текста и не пытается установить, насколько сильно он изменился после правок Чуковской. Очевидно, что она могла не только скорректировать отдельные факты, но и спроецировать опыт более позднего времени на свои ранние записи.
Что вам снилось во время террора
В третьей части книги Паперно обращается к повествованиям о снах в дневниках и мемуарах советской эпохи. В основном речь идет о текстах, написанных в 1930-е годы или описывающих этот период. Отсюда и название части — «Сны террора». Исследовательница дистанцирует свой подход от психоаналитического: ее интересует интерпретация повествований о снах как исторических источников. Паперно также отбрасывает фрейдистский «принцип предпочтения скрытого содержания сна явному» и рассматривает сны в контексте тех автобиографических нарративов, в которые они включены.
Паперно выдвигает интересный тезис: повествования о снах с присущей им амбивалентностью смыслов и эмоциональных состояний часто оказываются наиболее подходящим способом для осмысления реальности террора. Кроме того, человек, записывающий свои сны, «редко верит в возможность полной и исчерпывающей интерпретации», а иногда даже не пытается их интерпретировать: «В этом смысле рассказ о сне представляет собой уникальную форму отношения к самому себе: максимальную интимность и в то же время отсутствие прозрачности, несовпадение между понятиями „я”, „мое произведение” и „авторская интенция”».
В материале, который привлекает Паперно, доминируют сновидения литераторов и людей, так или иначе связанных с письмом: Бухарина, Пришвина, Каверина, Ахматовой, Всеволода Иванова, философа Якова Друскина, Ольги Берггольц и даже Сталина. Единственный «простой человек» в подборке — крестьянин Андрей Аржиловский, которому приснилось, как Сталин насилует неизвестного мужчину, — и тот работал в фабричной стенгазете и мечтал стать писателем.
Паперно ищет в повествованиях о снах выражение все того же исторического сознания и стремления авторов историзировать свою жизнь. Она обращает внимание на то, что во снах часто в символической форме осмысляется историческая ситуация. Так, Паперно разбирает описания снов в дневнике Вениамина Каверина и выделяет в них несколько мотивов, непосредственно связанных с террором: страх преследования и чувство вины за невольное соучастие в преступлениях.
Интерпретации, которые предлагает Паперно, не всегда убедительны. На основании короткой записи в дневнике Елены Булгаковой о том, что Сталину снились усы актера, игравшего в пьесе «Дни Турбиных», она приходит к заключению: «Сон Сталина представляется эмблемой отношений писателя и власти: зачарованные друг другом, они смотрели друг на друга как в зеркале».
Недоумение вызывает и то, что на материале повествований о снах в автобиографических текстах, созданных почти исключительно людьми интеллектуального труда, Паперно делает выводы об отношении советских граждан в целом к своим сновидениям: «Внося записи снов в свои дневники и воспоминания, люди советской эпохи надеялись, что эти записи выразят то, что оказалось невыразимым иными средствами. В составе автобиографических повествований сны фиксировали тот опыт, который для самого рассказчика остался непонятным или необъяснимым... Думаю, что... это свойства снов террора как таковых, проявившиеся с особой ясностью в записях людей, искушенных в литературе и искусстве».
***
Паперно, отталкиваясь от гегельянской философии истории и ее русской рецепции, предлагает общую рамку для рассмотрения дневников и мемуаров советской и постсоветской эпохи. В постскриптуме исследовательница размышляет о новой тенденции в русскоязычных автобиографических текстах начала XXI в.: стремлении не вписать интимные подробности своей жизни в широкий исторический контекст, а, напротив, дистанцироваться от него и «проснуться от кошмара Истории».