Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Алексей Конаков. Евгений Харитонов. Поэтика подполья. М.: Новое издательство, 2022. Содержание
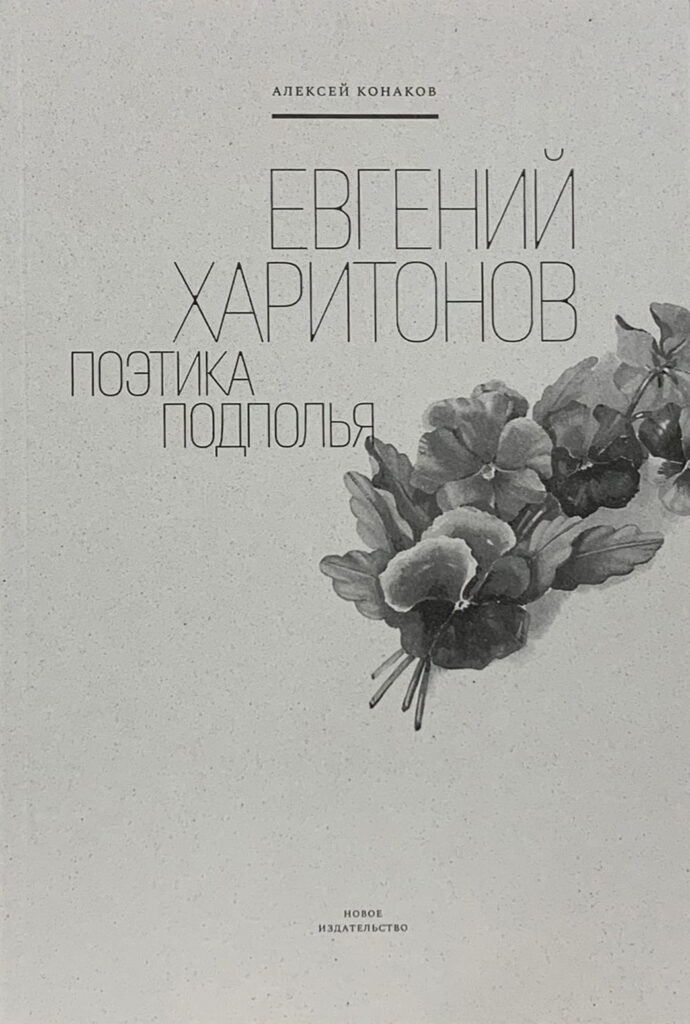 Недолгая творческая жизнь писателя, поэта, драматурга и театрального режиссера Евгения Харитонова (1941—1981) хронологически ограничена рамками эпохи брежневского «застоя»: в середине 1960-х он выпустился из ВГИКа и начал работать в театре и кино, а в 1981 году умер «знойным летним днем от разрыва сердца на московской улице», как лаконично описана его смерть в одной биографической справке.
Недолгая творческая жизнь писателя, поэта, драматурга и театрального режиссера Евгения Харитонова (1941—1981) хронологически ограничена рамками эпохи брежневского «застоя»: в середине 1960-х он выпустился из ВГИКа и начал работать в театре и кино, а в 1981 году умер «знойным летним днем от разрыва сердца на московской улице», как лаконично описана его смерть в одной биографической справке.
За эти пятнадцать лет Харитонов успел больше, чем иные за полноценную человеческую жизнь. Его проза, издававшаяся, естественно, в самиздате, определила многие векторы развития концептуализма — достаточно напомнить, что харитоновскую технику письма охотно комментировали Дмитрий Александрович Пригов и Владимир Сорокин. «Харитонов (и это достаточно тонкий момент) одновременно пропускает через себя свой текст и параллельно с этим оставляет в тексте некоего оператора-наблюдателя, описывающего его самого как героя текста. Вот это двойное остранение действительно уникально. Приблизительно то же самое пытался сделать Лимонов в „Это я, Эдичка“, но у Харитонова это получилось наиболее „чисто“», — говорил по этому поводу Сорокин.
(Для понимания того, почему Евгений Харитонов так важен в контексте московского романтического концептуализма, достаточно прочитать его гомерически смешной, печальный и во многом пророческий текст «Предательство-80», посвященный тому, как советские люди хоронят Ленина (предварительно поглумившись над его останками), а Кремль превращают в публичный дом, — и тому, что за этим последовало.)
Но это лишь одна из, как говорится, ипостасей Харитонова-художника. Важнейшей частью его творчества была новаторская работа в театре — прежде всего в области теории и практики пантомимы. Харитонов категорически отвергал школу Марселя Марсо с ее диктатом пластичных «движений против ветра»; куда больше его интересовал экспериментальный подход Александра Румнева, доведенный его учеником до подлинного радикализма.
Тело, телесность, сила (и в не меньшей степени — слабость) жеста — об этих категориях неизменно заходит речь в дискуссиях о квир-искусстве (современная приставка «квир» со всеми ее смысловыми оттенками подходит творчеству Харитонова безо всяких натяжек). Играют они одну из ведущих ролей и в книге Алексея Конакова «Евгений Харитонов: Поэтика подполья».
Жанровую принадлежность этой работы хочется определить через один «застойный» штамп — «очерк творчества». В советские годы это сочетание слов, подобающее безусловным классикам, нередко служило подзаголовком к прижизненным биографиям всякого культурного официоза — думаю, Харитонову бы понравилось, если бы кто-нибудь повесил этот ярлык и на него, абсолютного подпольщика.
Эталонный «очерк творчества» в его советском виде подразумевает обязательное и подробнейшее описание революционной и партийной деятельности героя. В изложении Конакова партией Харитонова становится театр, а революционной деятельностью — работа с телом актера, настолько радикальная, что практически любая харитоновская постановка была обречена на запрет еще на стадии черновых репетиций. Здесь нужно подчеркнуть, что Конаков, обращаясь к инструментарию вроде бы набивших оскомину body studies, применяет его к жизнетворческой биографии Харитонова крайне уместно и, скажем так, бесшовно:
«Первым опытом взаимодействия Харитонова со столицей оказался опыт прохождения приемной комиссии ВГИКа. И эта комиссия (учитывая, что абитуриент поступал на актерское отделение) оценивала вовсе не когнитивные способности, но тело Харитонова — сложение, осанку, фигуру, жест, тембр голоса, цвет глаз и волос, фотогеничность и умение двигаться. Много позднее Харитонов будет подробно описывать внешность тех или иных провинциальных мальчиков, которых он, ради сексуальной близости, приводит домой; однако сам взгляд на них, фиксируемый в художественных текстах, кажется позаимствованным у приемной комиссии ВГИКа 1958 года: „В нем не было ни одного изъяна, ни одной даже поры на носу, ни какой-нибудь ненужной нехорошей полубородавки, ни лопнувшего сосудика, ни родинки не на месте, все было молодо гладко и сладко, все было божественно, как для кинофильма“. По сути, провинциальный герой этого отрывка функционирует как зеркало — он отражает испытующий взор, двадцать лет назад брошенный Столицей на самого Харитонова».
(Не могу удержаться от замечания в скобках: эта исследовательская наблюдательность, на мой вкус, роднит книгу Конакова с лучшими представителями жанра «рассматриваем искусство через тело»; ближайший аналог, который лично мне приходит на ум, — «На подступах к карпалистике» Юрия Цивьяна.)
 Не менее интересно то, что автор книги о Харитонове ловко вплетает в биографию своего героя советские реалии тех лет, без понимания которых художественные тексты писателя могут сбивать с толку. Во-первых, харитоновская проза, если держать в уме его сексуальную ориентацию (уголовно наказуемую в те годы не только на бумаге, но и на практике) и культурное диссидентство, может удивить правоконсервативной идеологической заряженностью: эстетика сталинизма, черносотенного православия и антисемитизма в ней обладают такими же правами, как эстетика гомороэтическая. Конаков объясняет это вроде бы противоестественное сочетание тем, что главнейшим из свойств застойных лет было «отсутствие сильных реакций», ставшее идеологической доминантой советского общества и строя. Проза Харитонова, таким образом, подрывает культурный фон эпохи, шокируя не столько «неприемлемыми» сюжетами и образами, сколько самой эмоциональной и идеологической энергией.
Не менее интересно то, что автор книги о Харитонове ловко вплетает в биографию своего героя советские реалии тех лет, без понимания которых художественные тексты писателя могут сбивать с толку. Во-первых, харитоновская проза, если держать в уме его сексуальную ориентацию (уголовно наказуемую в те годы не только на бумаге, но и на практике) и культурное диссидентство, может удивить правоконсервативной идеологической заряженностью: эстетика сталинизма, черносотенного православия и антисемитизма в ней обладают такими же правами, как эстетика гомороэтическая. Конаков объясняет это вроде бы противоестественное сочетание тем, что главнейшим из свойств застойных лет было «отсутствие сильных реакций», ставшее идеологической доминантой советского общества и строя. Проза Харитонова, таким образом, подрывает культурный фон эпохи, шокируя не столько «неприемлемыми» сюжетами и образами, сколько самой эмоциональной и идеологической энергией.
Во-вторых, Конаков, недавно опубликовавший книгу «Убывающий мир: история „невероятного“ в позднем СССР», вновь обращается к «странным» аспектам быта и мироощущения советского человека. На этот раз в поле его зрения попадает бытование гомосексуала в столичной и провинциальной России «долгих 70-х». Лично для меня не стало новостью, что советские гомосексуалы, как и представители мужской части ЛГБТ-сообщества тех лет во всем мире, практиковали анонимные свидания в общественных туалетах, используя для физических контактов glory hole (на советском гей-сленге это называлось «телевизором»). Но, признаться, я был удивлен, узнав, что институционализированная гомофобия в Советском Союзе находила не только идеологическое, но и практическое измерение, способствуя таким вот научным открытиям:
«В 1966 году для выявления гомосексуалов специалисты проктологической лаборатории Министерства здравоохранения РСФСР разработали специальные приборные комплексы, измеряющие тонус прямой кишки: датчики, основанные на принципе гидравлического смещения, и записывающие устройства, позволяющие получать так называемые сфинктерограммы: „При исследовании датчик вводят в анальное отверстие. Давление сфинктера на датчик передается на записывающий механизм, который фиксирует тонус сфинктера в графическом изображении. Затем предлагают свидетельствуемому с усилием сжать датчик, введенный в прямую кишку, фиксируя новую отметку на миллиметровой бумаге“. Дискуссия о преимуществах „сфинктерометрии“ перед „грубыми догадками, полученными методом пальпации“, велась в журнале „Вопросы травматологии“ в том же 1966-м».
В таких вот условиях ковалось особое мироощущение Евгения Харитонова — советского денди, равно погруженного в советскую действительность и отторгающего ее от себя, но отторжение это производящего самым замысловатым образом. Позволю себе заметить, что книга Конакова многое дает для понимания той категории советских художников, пришедших уже после смерти Харитонова и выбравших в качестве творческой стратегии упоение тоталитаризмом, имперством — с известной фигой в кармане, имеющей свойство со временем заменять артисту руку, а затем и все его тело, включая голову. («Южинский кружок» или «Новая академия» Тимура Новикова — лишь самые известные и яркие примеры таких трансформаций антитоталитарного в тоталитарное.) В этом разрезе книга Конакова может послужить крепким основанием для дальнейших дискуссий об осмыслении и переосмыслении позднего советского андеграунда.
Но самое главное в этом труде, пожалуй, то, что его автор прорывает эстетскую блокаду Харитонова, предлагая видеть в его текстах не изысканную социокультурную девиацию, а то, чем они являются на самом деле — документом жизни человека, стоящего в очереди за колбасой, чтобы испытать жуткое удовольствие от стояния в очереди за колбасой. Пусть никакой колбасы на полках нет, да и в очередь никто вставать не собирался.
