Чеболи Острова цветов: «Привычный мир» Хван Согёна
Рецензия на роман одного из самых успешных корейских писателей
Постапокалиптические видения из Южной Кореи, экологический манифест и вместе с тем гимн тоске по патриархальному укладу. Все эти определения применимы к роману Хван Согёна «Привычный мир». Александр Чанцев — о недавно переведенной книге одного из самых читаемых корейских писателей.
Хван Согён. Привычный мир. СПб.: Издательский дом «Гиперион», 2020. Перевод с корейского Дарьи Крутовой
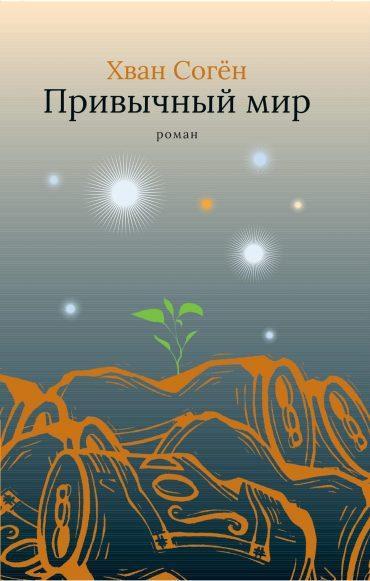 «Прошел слух, что новый генерал, захвативший власть, заявил, что очистит общество от всех этих гангстеров, зеков, хулиганов и просто растатуированных раздолбаев, вносящих смуту в жизнь обычных граждан, и прикажет, вне зависимости от возраста, ловить и отправлять их всех в образовательные учреждения, где из них будут делать новых людей. <...> Невыносимо разило гадкой смесью испражнений, канализационных вод, протухшей еды и вываренной соевой пасты. Рой мошек вился около лица, рук и ног пассажиров».
«Прошел слух, что новый генерал, захвативший власть, заявил, что очистит общество от всех этих гангстеров, зеков, хулиганов и просто растатуированных раздолбаев, вносящих смуту в жизнь обычных граждан, и прикажет, вне зависимости от возраста, ловить и отправлять их всех в образовательные учреждения, где из них будут делать новых людей. <...> Невыносимо разило гадкой смесью испражнений, канализационных вод, протухшей еды и вываренной соевой пасты. Рой мошек вился около лица, рук и ног пассажиров».
На первый взгляд роман Хван Согёна, одного из самых популярных корейских авторов последних лет, напоминает эдакую жесткую апокалиптик-урбанистику вроде книг Рю Мураками. Подростки Пучеглазый и Плешивый живут со своими — неполными, конечно — семьями на городской свалке, так называемом Острове цветов. И взрослые, и дети промышляют добычей даже не цветных металлов и стекла, а почти любых отходов — кусков пластика, полиэтилена, даже банок из-под йогурта. Работу этих семейных подрядов крышуют более «поднявшиеся» нищие — такие вот, как в корейской экономике, торговые дома «чеболь», группа компаний под руководством одной семьи. Быт взрослых — пьянки-жрачки и ссоры-драки, быт их детей — клей и корейская водка соджу.
Кажется, что после изматывающих смен в самодельных противогазах от рассвета и до заката у них единственная радость — пожарить те пищевые отходы, что откопали на свалке. «С наступлением вечера повсюду стали зажигать костры. На огне, разведенном в половине канистры, обитатели трущоб жарили мясо или варили аппетитный ччигэ. После чхусока наступала горячая пора, а уж потом они все смогут наесться досыта остатками с праздничного стола горожан. <...> Ах да, я и забыл, что, если долго варить траву и потом дождаться, когда она застынет, получится студень. Раньше ведь так делали чонпхо или тоторимук (Желе из зеленой чечевицы и желудей соответственно. — А. Ч.)». А уж выбраться в город — там их поносят за вонь от одежды и тел — и перекусить в уличной забегаловке представляется насельникам Острова настоящей райской мечтой. И книгу вполне можно читать ради подобной этники — как, например, выходивший несколько лет назад в том же издательстве «Гиперион» остросюжетный роман Мая Цзя «Заговор» о деятельности китайских криптографов и спецслужб в целом едва ли не интереснее было читать ради реалий Китая 80-х годов. Того, как они постоянно перемежают свою речь традиционными пословицами и отсылками к китайской классической литературе, какие обычаи в ходу, как едят, пьют, работают, ухаживают и вступают в брак по благословению местной партийной ячейки...
Но и воспринимать этот верхний экзотический слой как последнюю и единственную правду тоже отнюдь не стоит. Страсть к еде — не только свидетельство примитивности этих отбросов общества. Ведь еда на Востоке важна как средство коммуникации патриархального в основе своей общества (вспомним обязательные корпоративные пятничные пьянки в японских компаниях), а материальной культуре, непосредственным тактильным ощущениям всегда отдавалось предпочтение перед философскими абстракциями.
Так и роман предстает не совсем тем, чем он кажется. Где Рю Мураками, Масахико Симада или Сю Фудзисава ушли бы в жесткий натурализм и прочую расчлененку, Согён оркеструет другие темы. «Наконец их попросили освободить комнату, и, несмотря на то, что проблем у них прибавилось, это было к лучшему. Появилась работа, будет дом — можно было перевести дух». Да, это та тема социального неравенства и прочих проблем современного корейского общества, что знакома по тому же относительно прогремевшему недавно фильму «Паразиты» Пон Чжунхо. Это объяснимо: если стремительный технологический, экономический и т. д. прорыв Японии в прошлом веке был все же подготовлен со времен Реставрации Мэйдзи, то Корея, чьи достижения во многом обусловлены передачей японских технологий после Второй мировой войны в виде платы за зверства японцев в своей бывшей колонии, прошла этот путь еще стремительнее, соответственно, с большим количеством, как говорят о захоронениях ядерных отходов, хвостов, нерешенных, затаившихся противоречий. Ведь молниеносный почти путь из традиционной аграрной страны в сверхсовременное, постиндустриальное общество не может обойтись без трагедий.
Такими выброшенными буквальным образом оказываются Пучеглазый и Плешивый, когда-то ходившие даже в школу, жившие в самом городе, помогавшие родителям на рынке. Но не стоит думать, что перед нами социальная агитка. Хотя и таких в корейской литературе вполне хватает, недаром корейцы очень социально, даже революционно активны — чуть ли не каждую неделю в Сеуле можно увидеть демонстрации студентов, профсоюзов, хорошо, если без столкновений с полицией, отрубания пальцев или самосожжений в знак протеста против, например, посещения японским премьер-министром храма Ясукуни, символа японского милитаризма. Сам же Хван Согён, кстати, провел пять лет в тюрьме за незаконное посещение в 1989 году КНДР с целью установления творческих контактов между странами. «Привычный мир» совсем не привычен, этот мир странно меняется, мигрирует, это такой мир Дюны, где можно увидеть все что хочешь и не хочешь. Вот дети ходят к Костлявой в ее дом подкармливать 60 ее собак-инвалидов, вот дом старика и его сумасшедшей дочери-предсказательницы:
— Ты дядюшка собачек, а вот он кто?
— Брат это мой. На свалку свалился. А тетенька кто?
— Я бабушка ивы у брода.
— А что это бабушка так молода?
— Вообще, была невеста, да состарилась, и теперь бабушка.
— А сюда зачем пришла?
— Я телесная оболочка этой женщины. У нее так много забот, вот я и пришла помочь.
 На свалке, как в фильме Терри Гиллиама «Король-рыбак» с такой же, как сейчас модно говорить, локацией, часто вырастают, как растения-гибриды на искусственной и часто ядовитой почве, новые сказки, культивируются собственные мифы.
На свалке, как в фильме Терри Гиллиама «Король-рыбак» с такой же, как сейчас модно говорить, локацией, часто вырастают, как растения-гибриды на искусственной и часто ядовитой почве, новые сказки, культивируются собственные мифы.
Но и сюда повествование полностью не сворачивает. Потому что посещение детьми города, их шопинг в новых одеждах с оставленной на голове, как у Холдена Колфилда, любимой кепке — это даже не критический реализм, а сказка уже в духе Диккенса.
Но ключевой все же оказывается сцена (по)явления на свалке неких призрачных теней, голубых огоньков, оказывающихся — они открываются только детям, старикам и собакам после того, как те им помогли, — духами живших здесь раньше на острове крестьян, чья деревня была «зачищена» под городские отходы. Они, даже будучи духами давно умерших людей, заболели, просят помочь им — угостить традиционной стряпней. За это они являются целой семьей, показывают краешек своего загробного быта и щедро, как в сказке, благодарят отзывчивых детей.
И здесь важно уже действительно все. Не только страшная отчасти образность в духе мультфильмов Миядзаки, но и глубокая религиозная основа этого действа. Даже не буддийская, и идущая в более глубокие дали: в Японии это синтоизм с его поклонением духам предков, места, природы; в Корее — мусок, так называемый шаманизм, где умершие в бедности и несчастьях или, наоборот, в довольстве люди становятся злыми или добрыми духами, покровителями/мстителями. Здесь же важно еще и то, что можно назвать экологической темой: эти люди умерли, их дома снесены, их земля погребена под грудой техногенных отходов, но, как они скажут потом, они заняты тем, что собирают семена цветов, которые когда-нибудь надеются посадить и «вернуть эту землю себе». И это опять же не бурная фантазия автора — ведь помните те книги, что в 60–80-е переводили у нас с японского, писателей-социалистов, писателей-экологов, борцов за мир во всем мире и разоружение? Этого, конечно, уже нет, но в том же японском обществе очень популярна тема «фурусато», отчего дома, маленького городка в какой-нибудь далекой сельскохозяйственной префектуре. Да, работать все переезжают в Токио, городки и деревни в упадке, дома стоят, как в наших деревнях, разваливающимися, их можно купить за копейки. Но японцы помнят их, часто вздыхают, как бы вот вернуться в родные пенаты, припасть к корням, бросить офис, заняться выращиванием риса для традиционной водки сётю (корейский аналог — соджу)... И правительство поддерживает традиционные ремесла — но это уже другая тема.
 Хван Согён
Хван СогёнПоэтому на каком-то этапе «Привычный мир» можно прочесть как ностальгическую элегию об ушедшем патриархальном мире, что-то вроде корейского аналога «Прощания с Матерой» или современной трилогии Вероники Кунгурцевой о Ване Житном, где, как в «Американских богах» Нила Геймана, автохтонные боги и духи борются против современных пришельцев и пороков цивилизации. Уже после пожара, настоящего всесожжения-Шоа, в котором погибнет поселение на Острове цветов и многие его жители, сумасшедшая хозяйка собак будет перетаскивать в сгоревший храм всякие старые ненужные вещи вроде тех, что доживают свой век у каждого на дачном чердаке. И когда мальчик спросит, зачем, почему не то, что можно найти на возрожденной свалке, она пояснит мимоходом, что к этим вещам привязалась, а к вещам на свалке «люди не чувствовали к ним никакой привязанности».
Но и деревенская проза тут же мигрирует — в долгий, в духе Селби, Уэлша или Паланика, глюк Пучеглазого после соджу и клея. Который приводит его к такому выводу:
«Теперь он знал. Он понял, что все эти дома, из многочисленных окраин и центральной части города, здания, автомобили, набережные, железнодорожные мосты, огни фонарей, разрывающий барабанные перепонки шум, рвота алкашей, оказывающийся на свалке мусор, пыль, дым, вонь, ядовитые вещества — все это создано людьми».
Чего здесь больше — революционного экологизма или буддийского всеприятия — вопрос открытый, возможно, для будущего сиквела книги.