Букетик сцилл, осколки пластика и крошки крысиного яда
О внежанровой книге Мэгги Нельсон «Синеты»
 Когда я впервые увидела обложку маленькой синей книги под названием «Синеты», мне сразу пришло в голову, что «Синеты» — это твердая поэтическая форма для выражения любви к синему цвету. В некотором смысле так оно и есть. Книга «Синеты» состоит из 240 коротких высказываний о синем цвете. Американская писательница Мэгги Нельсон писала свой трактат с 2003-го по 2006 год. Сама она признается, что несколько раз пыталась подавать грантовые заявки на проект; все попытки оказались тщетными, никого не интересовала ее одержимость цветом. Но и приведенные Нельсон обоснования важности проекта для науки звучали предельно туманно: «В заявке для одного из консервативных университетов Лиги плюща, которую я заполняла и отправляла глубокой ночью, я описала свой проект так: безбожие, гедонизм и сексуальное возбуждение...».
Когда я впервые увидела обложку маленькой синей книги под названием «Синеты», мне сразу пришло в голову, что «Синеты» — это твердая поэтическая форма для выражения любви к синему цвету. В некотором смысле так оно и есть. Книга «Синеты» состоит из 240 коротких высказываний о синем цвете. Американская писательница Мэгги Нельсон писала свой трактат с 2003-го по 2006 год. Сама она признается, что несколько раз пыталась подавать грантовые заявки на проект; все попытки оказались тщетными, никого не интересовала ее одержимость цветом. Но и приведенные Нельсон обоснования важности проекта для науки звучали предельно туманно: «В заявке для одного из консервативных университетов Лиги плюща, которую я заполняла и отправляла глубокой ночью, я описала свой проект так: безбожие, гедонизм и сексуальное возбуждение...».
Казалось бы, какое отношение к синему цвету могут иметь безбожие, гедонизм и сексуальное возбуждение? Синий цвет всегда ассоциировался со святостью, гедонизм и сексуальное возбуждение, напротив, ассоциируются с алым цветом. Да и как можно рассчитывать на то, что получишь деньги на проект, если сама его определяешь не через сложный культурологический и философский контекст, но через эмоционально окрашенные слова, описывающие нравственное падение и жизнь телесного низа? В этом несовпадении и живет поэтика Нельсон.
Нельсон признается, что, начав работать над книгой, планировала написать увесистый том вроде энциклопедии, в котором были бы собраны все сведения о синем цвете. Но когда писательница собрала все разбросанные по блокнотам записи, то обнаружила, что книга, которую она писала целых три года, очень мала. Нельсон пишет: «поражаюсь ее малокровию — малокровию прямо пропорциональному моей страсти...» Но противопоставление «малокровие/страсть» снимается, когда погружаешься в этот текст, на самом деле книга как бы подсвечена страстью. Она не выглядит скудной отпиской, ее скорее можно назвать букетом диких сцилл, синих цветов подснежника, которые еще называют синетками и в честь которых названы составные части книги. Страсть подсвечивает промежутки между коанами и тематические разрывы в повествовании. Только страсть могла заставить человека искать ответы на свои вопросы в трудах Витгенштейна и популярной культуре одновременно. Именно страсть конструирует книгу Нельсон.
Нельсон против того, чтобы писать о цвете как знаке, вписанном в матрицы культур, для нее синий цвет — это в первую очередь код чувственного. Безусловно, Нельсон опирается на своих предшественников, исследовавших природу цвета, — Гёте, Витгенштейна, Пастуро, но и цитирует песни Леонардо Коэна, Джони Митчелл, книги по популярной психологии и саморазвитию. Она разбирает жития святых дев, вырвавших себе глаза, и приводит в пример Ньютона, который тыкал в собственный глаз палкой, чтобы пережить и описать цветовые реакции. И ее совершенно не интересует то, что Ньютон писал о цвете; сами факты — человек совершал болезненные манипуляции со своими глазами, Святые Луция, Медана и Тридуана собственноручно лишались органов зрения — ее восторгают.
 Мэгги Нельсон
Мэгги Нельсон
Цвета без тела не существует, только благодаря глазам человек может воспринимать цвета. Так почему же синий цвет, цвет яда, недостижимого неба, синева которого — оптический обман, еще цвет болезни и несъедобного, будоражит писательницу? Не потому ли, что синий цвет — такой внешний и манящий, сама она пишет о нем как о том, что затягивает в себя, — это часть ее самой, часть, которая не поддается дешифровке. Синий цвет мыслит и вступает в коммуникацию, так пишет Нельсон, а еще она пишет, что страдает душевной болезнью, вызванной несчастной любовью. В некотором смысле процесс разгадывания синего цвета для нее превращается в процедуру препарирования болезни. Но все не так просто, как кажется, «Синеты» — это не аутотерапия, это вглядывание в болезнь не с целью от нее излечиться, а проникнуть в нее и раствориться в ней. Нельсон напоминает: «Для Платона цвет, наряду с поэзией, представлял собой опасный наркотик. И то, и другое, по его мнению, следовало бы изгнать из государства. О художниках он говорил, что они лишь растирают краски и смешивают зелья, а цвет называл разновидностью фармакона...» Фармакон с греческого языка переводится как «лекарство», но лекарство, как и любое вещество (и цвет), имеет не только лечебное свойство — этим же словом обозначали яд.
И если адресаты «Синетов» — сама писательница, и в то же время триггер ее болезненных ощущений, бывший любовник, то центральной героиней книги становится скованная после автокатастрофы параличом подруга писательницы. Ее обездвиженное тело продолжает жить; Нельсон не называет имени, и на протяжении всей книги именует ее описательно — «парализованной подругой». Письмо развивается и ветвится, тело подруги продолжает жить без движения, но это не значит, что оно мертво. Парализованная женщина осваивает новый способ бытия в мире без тела, которое непрестанно болит. Нельсон наделяет ее даром провидения, ведь мученичество дарует новый регистр речи, а обездвиженность подруги заставляет людей приходить к ней словно к святой реликвии или пророчице.
Замечательны и небрежные отношения Нельсон с вещами синего цвета. Нельсон завораживает полиэтиленовый тент, бьющийся на ветру в дождливую погоду, камушки на побережье, окаймленные синей краской, осколки пластика и крошки крысиного яда. Ее тяга к синему не приводит к скрупулезному коллекционированию, она не ведет каталог вещей и не выделяет в собственном доме новых пространств для обретенных объектов. Сама она пишет, что синие вещи стоят у нее на одной из полок, и без сожаления признается, что относится к ним небрежно — многие из них необходимо скрыть от света и пыли, но она этого не делает, вещи выцветают и тлеют. Сама мысль об этом цвете и ее эмоциональный контакт с ним намного важнее, чем вещи. Вещи — это всего лишь осколки великой бездны, они несут на себе ее отпечаток, но сами ею не являются, потому что бездна, в отличие от бога, не живет в каждом объекте, отмеченном ею. Чаще синие вещи разочаровывают и обманывают ожидания; Нельсон проделала огромный путь, чтобы посетить выставку Ива Кляйна, но, подойдя к его скульптурам цвета индиго, разочаровалась. Кляйн не оживил цвет, он сделал его мертвой вещью, принадлежащей ему самому. Нельсон же желает говорить с цветом, быть с ним и в нем, но горстка синего пигмента неприкосновенна и нема.
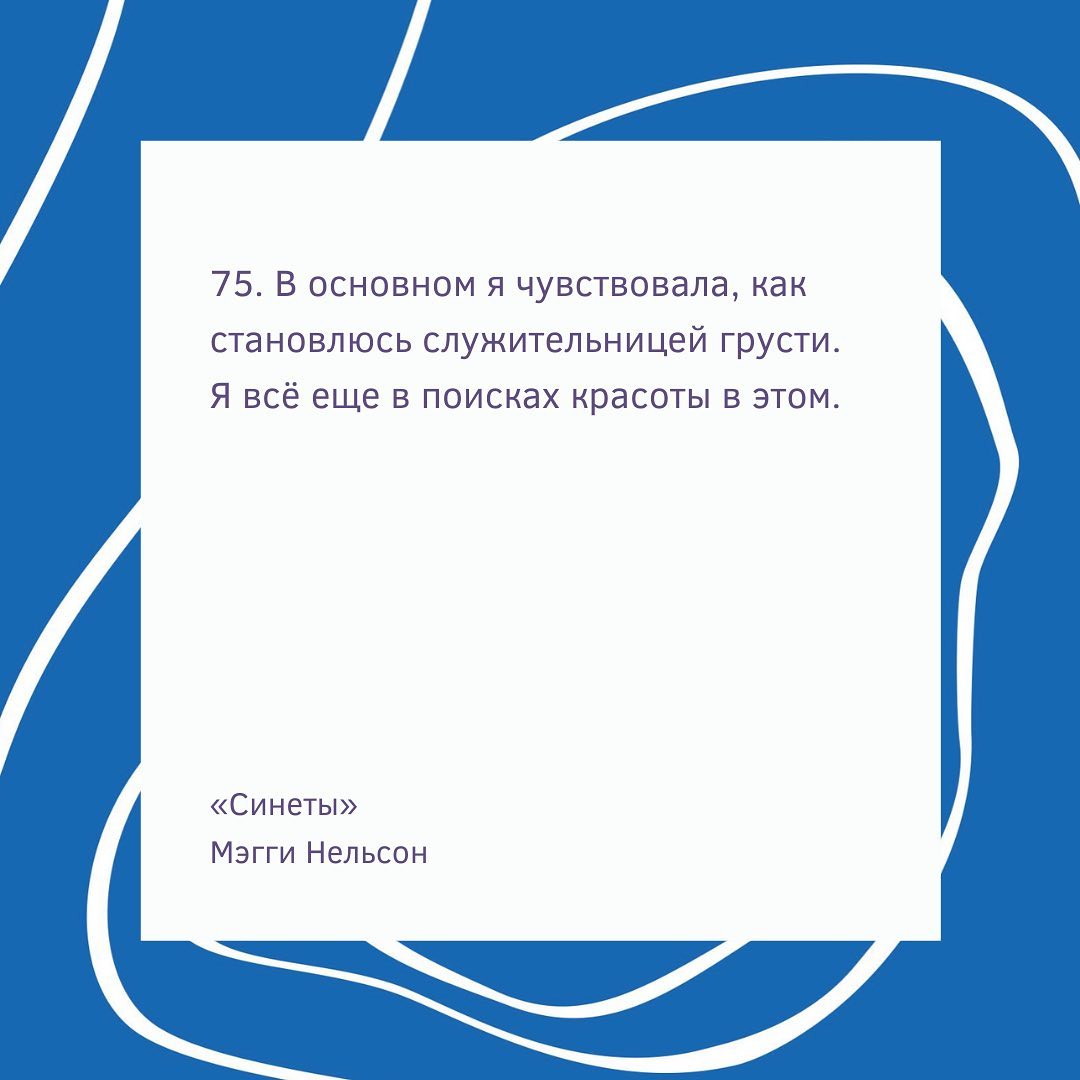
Письмо о цвете, душевной болезни, любви и философии не может не привести к вопросу о природе самого письма и его отношений с памятью. К фармакону Нельсон добавляет протраву, «средство для закрепления цвета или его введения по принципу татуировочной иглы...» Протрава, как и фармокон, имеет два противоположных эффекта — закрепление (память) и разъедание, нарушение целостности. Это ли не письмо — постоянное тревожащее воздействие пишущего предмета или печатной буквы на лист, и это ли не память — знаки и имена, события и переживания, которые мы храним внутри себя и которые постоянно нарушают наш покой. Но чаще необходимо прикладывать усилие, чтобы помнить, и еще больше усилий — чтобы забыть. И главным хранителем и источником импульса к письму, как и в случае с цветом, является тело, и тело помнит все — даже то, что человек забывает.
На следующий день после чтения книги я рассказывала своей жене о том, как в раннем детстве мы всей семьей заразились чесоткой, и врач отправил всех на ежедневные процедуры в кожно-венерологический диспансер. В течение двух недель мы ходили в диспансер к семи утра, чтобы нас вымачивали в специальных щелочных ваннах, поливали ледяным душем, а потом оборачивали простынями, пропитанными каким-то раствором, который пах тухлой тряпкой и чем-то кислым. Мне было лет пять, и сейчас я воспроизвожу собственное воспоминание, не помня ни одной детали. Например, я могу помнить огромные ванны на железных ножках, кафель, шланги и тела моих родителей. Но я не могу вытащить эти воспоминания, не могу реконструировать их и сказать, например: слева от входа была скамеечка для ожидания, а на третьей сверху кафельной плашке я помню несколько пересекающихся трещин. Нет, так не работает мое воспоминание. Я помню только сильный неприятный холод, чувство стыда и наготы, а еще — сплошной грязно-бежевый цвет.
Не цвет ли заполняет собой болезненные воспоминания, не он ли защищает нас от них, постепенно сливаясь с нашей раной? И не потому ли он так притягателен?