Большой зоологический поворот
Три поэтические книги февраля
 Линор Горалик. Всенощная зверь. Ozolnieki: Literature without borders, 2019
Линор Горалик. Всенощная зверь. Ozolnieki: Literature without borders, 2019
И название, и образы нового сборника Линор Горалик связывают его с недавно вышедшим романом «Все, способные дышать дыхание». В этом романе на головы израильтян, переживших некую военную катастрофу, свалилось еще одно обстоятельство — заговорили животные, от домашних кошек до жирафов в зоопарке. На протяжении всего романа Горалик тестирует пределы человеческой эмпатии, и выясняется (неудивительно), что в горечи поражения, в состоянии выгорания, в предельных, экстремальных ситуациях эмпатии категорически не хватает.
Большой «зоологический поворот», происходящий на наших глазах в антропологии, требует отдельного разговора. С одной стороны, животное — идеальный Другой, от которого должны рикошетить извечные этические вопросы. С другой стороны, на это же животное прекрасно проецируются наши достоинства и недостатки. Высоколобые гуманитарии и безвестные сочинители русских народных сказок руководствуются здесь одним интересом. Мы все находимся на грани какого-то планетарного асона, толерантные детские книжки, которые читают в романе Горалик, явно не помогут. И вот в этих условиях в своих новых стихах Горалик нарочно нажимает на невыносимость «нормального» в ненормальных обстоятельствах.
Глядь — а мы тут лежим такие
беленькие, мягенькие, тупенькие,
кучкой сонненькие, пачкой никакие.
<…>
А мы приняли тихого, взяли тачку
и отправились, котики, хоронить собачку…
В прошлом сборнике «Так это был гудочек» есть практически нестерпимое стихотворение «Наша Аня все кричит через свой стафилококк…», где фольклорное заклинание «У кошки боли, у собаки боли» превращается в реальные мучения этих животных. В новом сборнике Горалик добавляет сюда уменьшительно-ласкательные суффиксы, чтобы стало совсем страшно. «Все-то мы, котики, понимали», — сообщает стихотворение, отказываясь даже от обычного для Горалик заговаривания смерти.
 Линор Горалик
Линор Горалик
Собственно, «Всенощная зверь» — отважная хроника того, как отчаяние побеждает. Эта книга отлично передает то ощущение, когда былые союзники — не только одноразовые кошки и собаки, но и вечное, разливанное море звука — перестают тебе помогать. Они бы, может, и рады, и даже заглавная Всенощная зверь, подобно тем самым кошке и собаке, кобзонисто пропевает: «Я прошу: хоть ненадолго, / боль его, перейди на меня». Но ее антагонист Фома этой помощи не желает: он готовится разъять ее, как труп, проанализировать ее с помощью неверия. «Но наука доказала, / Что души не существует», — как писал в известном анималистическом стихотворении Николай Олейников.
Автору остается констатировать, что это-то неверие — и есть настоящая всенощная зверь, и мало надежды на то, что у нее есть заутренняя сторона. По слову Михаила Шишкина, всех ожидает одна ночь: «Нас ждет победа над запущенным, / оно должно быть остановлено. / А, вот уже и остановлено». Двусмысленность слова «запущенный» («как все запущено» vs. «запустить сердце») — шутка совсем не веселая.
Этот каламбур — возможный ключ к пониманию «Всенощной звери». В этой книге Горалик сводит контексты, сближает далековатые вещи — и показывает, что на самом деле они не так уж друг от друга далеки. Хармсовское «Из дома вышел человек» логично монтируется с ходасевичевским «Счастлив, кто падает вниз головой». В лучшем стихотворении сборника слова американского гимна — «Oh, say! can you see / By the dawn's early light...» — превращаются в торжественную песню новогодних елок, которые рубят к празднику. В подтексте здесь сталинская поговорка «Лес рубят — щепки летят»: новогодний гламур объединяется со знанием о современных репрессиях, которые творятся по всему миру. О вещах, которые мы проматываем и забываем за диалогом у новогодней елки. Это умение не видеть — одна из характеристик царства всенощной звери. Ему посвящено одно из самых коротких и сильных стихотворений в книге:
Все исходящие изошли
белым, бескровным, бессеменным;
жалкую судорогу писца
жадно вылизал клякс-папир.
Кажется, виден кусочек «сп»,
кусочек «а» и кусочек «те»;
видимо, сказано: «Боже мой!
Что за черника в этом году».
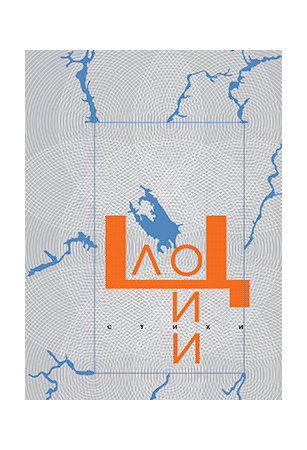 Евгений Стрелков. Лоции. Нижний Новгород: Дирижабль, 2018
Евгений Стрелков. Лоции. Нижний Новгород: Дирижабль, 2018
Таких людей, как Евгений Стрелков, иногда называют полиматами или «людьми Возрождения»: поэт, художник, издатель, в прошлом ученый, а ныне пропагандист науки (особенно нижегородской, к которой он имел прямое отношение); энтузиаст художественной географии — краеведения в высоком метафизическом смысле, как у Дмитрия Замятина и покойного Андрея Балдина. Книга «Лоции» сопутствует впечатляющей одноименной выставке Стрелкова, которая сейчас идет в московской Галерее на Шаболовке, — здесь можно увидеть и услышать, например, окарины в форме волжских водохранилищ, отлитые из керамики по стрелковскому проекту; преобразованные в электронную музыку описания животных из трудов нижегородских натуралистов XVIII века; реконструированный/переосмысленный иконостас из саровского собора, уничтоженного ради разработки атомной бомбы (фигуры на иконостасе просвечены рентгеновскими лучами, как в страшных фильмах 1980-х о ядерной войне).
В этой глубокой и очень симпатичной (опять-таки в высоком смысле) деятельности поэзия играет организующую роль, отсылающую опять же к XVIII веку — который был одновременно и русским Возрождением, и русским Просвещением. В стихах Стрелкова неслучайны постоянные отсылки к Ломоносову. Тут и «кузнечик дорогой», который, в свою очередь, передает стрекочущий пароль обэриутским и прочим модернистским насекомым (помним у Мандельштама: «Цитата есть цикада»), и даже прямой оммаж — «Ода гиротрону»:
Неправо о лучах те думают, Шувалов,
которые не чтут мельчайших интервалов,
колеблющих эфир в устройстве «гиротрон».
Прибор сей зело мудр, и тем полезен он,
что колебанием заряженных корпускул
способен сотворить незримый зраком мускул,
так сжать в объятьях плазмы вещество,
чтоб трансмутировать природы существо:
летучий водород вмиг в гелий переправить
а разницу в весах — в энергию направить.
 Евгений Стрелков
Евгений Стрелков
Это, впрочем, предельный случай стилизации: Стрелков способен писать вполне современным языком и на этом языке создавать современный научный эпос. Таков, например, цикл «Троицкий» о выдающемся нижегородском радиоастрономе:
Пир астрономов на радиополигоне.
Речной косогор. Покой.
Квадратом — скамьи на склоне.
В центре — чан с кипящей ухой,
напоминающий чашу радиотелескопа,
нацеленного в созвездие Рыб.
Рыба сварилась, уха налита.
Рыбаки обсуждают пульсар в окрестности Тау Кита.
Потом поют застольную песню:
«Десять лет мы просеивали густую звездную пыль,
— но не нашли зерно инопланетного разума.
Видно, наше сито не вполне мелкое.
Видно, звездная пыль не вполне густая.
Мы возьмем сито помельче
— ажурное сито из оцинкованной жести.
Мы возьмем пыль погуще
— звездную пыль из волос Кассиопеи.
Мы просеем густую пыль в мелком ажурном сите.
Мы найдем зерно инопланетного разума!»
Для Стрелкова — и Стрелкова-художника, и Стрелкова-поэта — характерно мышление циклами, и «Лоции» можно счесть концептуальной книгой. Лоция — это описание моря или реки, предназначенное для навигации. Речная лоция на бумаге, помимо того, что незаменима для капитана, еще и невероятно красива; так сказать, сочетание приятного с полезным, вполне в духе эстетики XVIII века. Книга Стрелкова, человека много путешествующего, — это еще и каталог рек, история плаваний по Волге, Оке, Каме, Сене, Темзе. Здесь есть совсем краткие, элементарные зарисовки: «Август, густеет тень, / гаснет день, / сень / ив прибрежных накрыла ил / у воды. / Неводы / рыбаков. Дощатый настил / полотняный навес. / Вдали — лес, / силуэты стропил / — Козловка». Это первая часть стихотворения, а вторая начинается с рифмы к последней строке первой части: «Ловко / управляются рыбаки, множат улов…»; такое перетекание, флюидность текста — один из стрелковских приемов. Но есть здесь и настоящая поэтическая история рек, объединенная с естественной историей в некий общий органон:
Зеленое топкое небо пермского леса
млечным путем пронизала светлая Кама.
Белыми пунктами по берегам и на горизонте
уцелевшие церкви. Если соединить их пунктиром
Образуется что-то вроде созвездий:
Большой росомахи, Шаманского хохота
Июльского грома, Октябрьского грохота
где альфой — Ларисы Рейснер неверная этуаль
В туманности Гегеля, в центре — ленинская спираль.
И становится ясно, почему в соседнем стихотворении «Об истории» появляется список кораблей («сверяй, Гомер»): «„Бурлак”, „Делосовет”, / „Атаман Разин”, „Гражданка”, „Дельфин”, „Ташкент”, / „Коммуна”, „Поражающий”, „Братство”, „Прыткий”, / „Ретивый”…» То, что выглядит как перечень судов, встреченных нашим современником во время речного плавания, на самом деле имена кораблей Волжской военной флотилии, существовавшей в 1918–1919 годах. Это корабли-призраки, проявляющиеся в современном пейзаже, как кости святых на рентгеновской иконе; на минуту извлеченные из тумана единым зрением путешественника, историка, ученого и поэта.
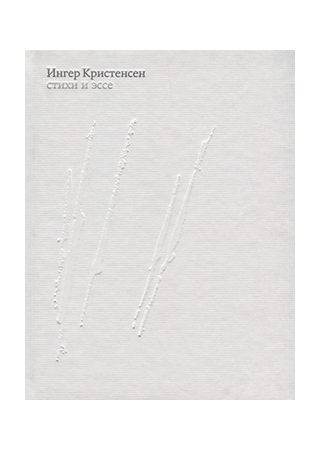 Ингер Кристенсен. Стихи и эссе. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; Кноппарп: Издательство Ариэль, 2018. Перевод с датского А. Прокопьева и М. Горбунова
Ингер Кристенсен. Стихи и эссе. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; Кноппарп: Издательство Ариэль, 2018. Перевод с датского А. Прокопьева и М. Горбунова
В этом томе, результате многолетней работы, представлены по-русски все стихи знаменитой датской поэтессы и две книги ее эссе. Изданию предпослана большая статья с описанием жизни Кристенсен и анализом ее поэзии.
Когда читаешь стихотворения Кристенсен, написанные, скажем, 50 лет назад, удивляешься, насколько они созвучны с произведениями современных авторов, пишущих на русском языке. Скажем, с прозопоэтической «Встречей», полной беспокойства, принципиально неясных взаимоотношений мира и тела, сходны недавние тексты Галины Рымбу («там в верхней комнате я ищу и ищу свою третью руку, может она спряталась в снегу, может выберется сама, прокрадется ощупью к сердцу стихотворения, натолкнется на мое сопротивление посреди стиха»). С большим, центральным в творчестве Кристенсен циклом «Это» сходны вещи авторов, чья работа так или иначе соотносится с поэтико-философской практикой Аркадия Драгомощенко: это Евгения Суслова, Никита Сафонов, даже более «игровой» Ростислав Амелин. Как и у самого Драгомощенко, мысль у Кристенсен часто проходит по некой умозрительной грани на стыке лингвистики и физики.
Наверное, удивляться на самом деле не стоит. Мы имеем дело с общей модернистской мыслью о том, что язык и физическая реальность устроены схожим образом, могут быть описаны одними терминами. «Язык есть бог» — имплицитная мысль Бродского. «Бог — та беседа, которую человек ведет со Вселенной, или наоборот: та беседа, которую Вселенная ведет с человеком, чтобы осознать себя», — пишет в одном эссе Кристенсен. То, что у самоучки Бродского было поставлено на рельсы интуиции, у Кристенсен связано с глубоким чтением революционных лингвистических текстов Вигго Брёндаля и Ноама Хомского. Теория Хомского о генеративной, врожденной грамматике, согласно которой человеческая способность создавать и осваивать языки — это биологическая, эволюционная данность, наполняет Кристенсен «фантастическим ощущением счастья»: все оказывается связано со всем, а научная строгость метода позволяет в этом «всем» разобраться.
Тема поэтической книги «Это» — сотворение, бытие и страх возможной гибели мира, распада его связности. Темы, как видим, всеохватные. Само название «Это» отсылает ко всеобщей, первичной субстанции — «первой сущности» у Аристотеля, про которую можно сказать только «вот это вот», и таттве у индуистов. Ясно, что без должной организации такой материал расползется в словесную кашу — вот почему Кристенсен упорядочивает его с помощью лингвистических стихов из брёндалевской «Теории предлогов»: здесь есть симметрии, транзитивности, непрерывности и так далее. При жесткости этой организации внутри нее царит буйство возможностей. Подход следует за подходом, техника меняется от фиксации «взрывного» потока сознания («чувствовать что рука это улица / стоп / что голова это торговый центр в пригороде / стоп / что грудь серийный дом в Бруклине / стоп / желудок завод в Иокогаме / стоп / внутренности и дерево») до регулярного, рифмованного стиха или одной-единственной строки — «жизнь священна».
 Ингер Кристенсен
Ингер Кристенсен
В пору зрелости Кристенсен часто обращается к жестким формам: скажем, к стихам, построенным на рядах Фибоначчи, ну а для поздней «Долины бабочек» она вообще выбирает подчеркнуто архаичную форму венка сонетов — которая, заметим, требует исключительной искусности при переводе. По такому описанию можно сделать вывод, что Кристенсен — поэт исключительно «головной», этакая поэтическая инкарнация раннего Витгенштейна. Это совершенно не так. Та же «Долина бабочек» полна нежности и благодарности к миру, который позволил себя увидеть:
Павлиний Глаз, и Адмирал, и Голубянка,
и Траурница — на тебе, лети!
как бы из рукава нам жизнь достал обманкой
вселенский шут, чтоб ей — не быть в небытии.
Есть одна проблема, которая из стихов Кристенсен не уходит. Это проблема соотношения «я» с телом — опять-таки сугубо модернистская, вспомним мандельштамовское «Дано мне тело — что мне делать с ним?». Телесность у Кристенсен очень яркая, превосходящая, например, то, что мы видим у близких ей Экелёфа или Транстрёмера. В ранних стихах Кристенсен описывает прямо-таки депривацию тела и гендерной идентичности. Взгляд на себя оказывается разрушительным:
Мои глаза скользят
вопрошающе
по наготе
Зеркало стекает
как дождь
с моих ног
вниз
в ржавую решетку
В более поздних текстах недоверие к телу приобретает политическую окраску:
когда власти арестовывают кишечник
конечность железы / любовник пускает газы
и любящие исходят пóтом всеми остав-
шимися частями себя / когда власти
арестовывают ногу которая продолжает /
выражать опыты тела / любящие ползут
на животе / ходят на руках
стоят на голове / выделяют слова
Стоит обратить внимание, что здесь человеческие органы — имеющие общее происхождение, но совершенно различные — начинают дублировать функции друг друга, едва к делу подключается любовь. Любящие люди как слова, которые состоят друг с другом в каких-то отношениях. Для людей и для слов это естественный ход вещей, и залог спасения — в принятии этой данности. «Скажи мне, / что да, вещи / говорят / на своем собственном / ясном / языке», — просит Кристенсен в цикле «Апрельское письмо». Люди же должны слышать этот язык и помогать ему рождаться. «И если нам не будет помехой наша гордость по поводу того немалого мира, который мы сами построили и который является нашей предварительно оценкой того, что поддается познанию, нам следует вернуться к нашему исходному пункту и посадить дерево. В благодарность за то удивление, которое дарит мне энергию и способность различать между хорошим и дурным», — пишет Кристенсен в эссе «Труд».
Речь не о том, что нужно слиться с природой, оставив рукотворный мир: в рукотворном мире нужна именно «способность различать между хорошим и дурным». В человеческом мире есть зерна смерти, потенции уничтожения. Так в поэме «alphabet» наряду с брусникой есть «бомба водородная», а наряду с фасолью, фиалками и финиками — «и фиаско, и фатальные / ошибки». Так уж устроен словарь — но поэт может превратить язык в речь, выделить в нем то, что тревожит его больше всего. Поэтому в «alphabet» атомная бомба, водородная бомба, кобальтовая бомба, дефицит питьевой воды — это как раз те угрожающие зерна, которые заставляют поэта ускоренно, лихорадочно перечислять то прекрасное, что есть в мире. Противиться злу каталогом прекрасного. А, скажем, в прозаических «5×25 зимних заметках к летнему проекту» — критиковать общественное устройство, которое порождает недоверие, алчность, ненависть. «Мы тщеславны, надменны и завистливы и потому создали полицию, общественные институты и нормы приличия» — но: «Лучше сойти с ума, чем чувствовать отвращение к другим людям».