Библейская femme fatale
Рецензия на книгу «Саломея. Образ роковой женщины, которой не было»
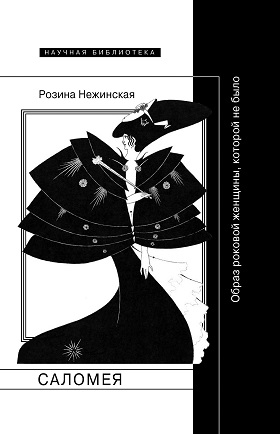 Розина Нежинская. Саломея. Образ роковой женщины, которой не было. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
Розина Нежинская. Саломея. Образ роковой женщины, которой не было. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
Уже в Ветхом завете у женщин сложилась неважная репутация: Ева соблазнила Адама запретным плодом и тем самым обрекла все человечество на муки, а первая его жена Лилит, апокрифическая, отказалась ему подчиняться и сбежала от мужа. Самые яркие ветхозаветные героини грешили ради великой цели — например, дочери Лота вступают в сексуальный контакт с собственным отцом и спасают себя, свой род и человечество от вымирания. Точно так же поступает и Тамар: после смерти двух своих мужей, которые были братьями, она понимает, что свекор не спешит выдать ее за третьего, переодевается блудницей и соблазняет самого отца-Иегуду. Через несколько поколений благодаря их связи рождается царь Давид. В конце концов, если бы не грехопадение Евы, то не было бы человеческой истории (хотя в Ветхом завете хватает и абсолютно отрицательных героинь).
Однако в Новом завете взгляд на женщину становится еще более строгим и даже жестким. Розина Нежинская в чрезвычайно интересном исследовании «Саломея. Образ роковой женщины, которой не было» разбирается с самой загадочной отрицательной героиней Библии, прослеживает формирование мифа о ней и изменения ее образа в различные эпохи. По выражению автора, «Эта книга — попытка проблематизировать социальную стигматизацию Саломеи и поставить под вопрос само понятие стигмы». Объем материалов, которые привлекает исследовательница, поистине колоссален: это исторические источники, иконография, живопись разных периодов, литература и музыка. (Но поскольку одна из целей автора — развенчание стигмы Саломеи, в книге заранее задается определенная оптика, которая иногда приводит к «искажению» исследовательского зрения).
Нежинская начинает с самого начала: в исходном сюжете о мучениях Иоанна-Крестителя Саломея была упомянута как случайный персонаж, а не жаждущая крови принцесса. Автор ссылается на «Иудейские древности» Иосифа Флавия, где сказано, что «тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. <…> Иоанн был в оковах послан в Махерон», — то есть за смерть Иоанна был ответственен только Ирод. Из того же источника известно о вполне благополучной судьбе исторической Саломеи, а сюжет с ее танцем всего лишь позднейшая вставка.
Интерес к этой героине вырос в Средние века и понадобился для иллюстрации тезиса о том, что женщина — сосуд греха: «Для Библии и Отцов Церкви женщины делились на три категории: святая, грешница и раскаявшаяся грешница. Образ святой <…> был связан с Девой Марией. Образ грешницы, испытавшей все муки и радость покаяния, — с Марией Магдалиной. Саломею же относили к типу глубоко закоренелой грешницы, не знающей раскаяния, истинной наследницы Евы».
1/2 Алонсо Гонсале де Берругете, «Саломея», 1512-1517 годы Фото: art-pics.ru 2/2
Алонсо Гонсале де Берругете, «Саломея», 1512-1517 годы Фото: art-pics.ru 2/2  Жан Беннер, «Саломея», 1899 год Фото: public domain
Жан Беннер, «Саломея», 1899 год Фото: public domain В эпоху Возрождения происходит некоторый сдвиг в восприятии мифической танцовщицы: «Они [художники — прим. ред.] писали ее поясные портреты, соблюдая классические пропорции идеальной женской красоты. Постепенно эти портреты утратили всякое религиозное измерение, хотя Саломея на них по-прежнему изображалась держащей блюдо с отсеченной головой Крестителя». Возникает контраст между идеальной красотой и ужасным поступком Саломеи, она и ее танец постепенно отделяются от сюжета с казнью Иоанна и приобретают самостоятельное значение.
В XIX веке Саломея полностью освобождается от этого контекста и становится femme fatale, которой буквально одержимы и художники, и поэты. Саломея попадает в один ряд с другими легендарными соблазнительницами: «Далилой — вероломной возлюбленной Самсона; Иезавелью — опасной и губительной чужачкой; Юдифью — отважной убийцей Олоферна; Кассандрой; Клеопатрой; Лилит, Ламией». По мнению Нежинской, мужчины изображают женщин как роковое зло, поскольку чувствуют, что в реальности от них исходит настоящая опасность. Автор имеет в виду борьбу женщин за свои права и тот факт, что мужчины вынуждены были постепенно вступать в социальную конкуренцию, поскольку все больше женщин занимались самостоятельным трудом. В 1848 году во Франции прошла волна протестов против законов, ущемлявших женщин в правах, однако на них мало кто обратил внимание из-за предубеждения, выраженного Прудоном, который видел в женщине «куртизанку или домохозяйку». Нежинская пишет: «В нем [создании мифа о женщине — прим. ред.] также воплотилось восприятие женщин мужчинами — настолько же сформированное усилиями мужчин, насколько и меняющимися социальными условиями. Образ Саломеи сосредоточил в себе множество характеристик, отражавших дух XIX столетия. Век стремился доказать, что „женская раса” является низшей».
Однако Нежинская не учитывает еще один важнейший фактор: в начале XIX века, после некоторого разочарования в эпохе Просвещения, у людей возник интерес ко всему иррациональному, где зло часто выступает обаятельным: начиная с «Фауста» Гете, «Вампира» Полидори, «Манфреда» и «Дона Жуана» Байрона и заканчивая «Цветами зла» Бодлера и, позже, декадентством. Демонических персонажей хватало и среди мужчин.
Пер Факснельд в книге «Сатанинский феминизм. Люцифер как освободитель женщин в культуре XIX век» писал, что романтизм понимал дьявола как силу, противостоящую христианской патриархальной тирании, а грехопадение Евы — как акт освобождения от них. Такая трактовка восходит к поэме Мильтона «Потерянный рай», где дьявол представлен как отчаянный борец за свободу — отсюда демонизация литературных и живописных персонажей, и, конечно, речь идет не только о femme fatale.

Слева: Модест Александрович Дурнов. Обложка к российскому изданию «Саломеи» Оскара Уайльда в переводе Бальмонта, 1904 год. Справа: Алла Назимова в роли Саломеи в одноименном немом фильме 1923-го года
Фото: wikimedia / rosadoc.be
Весьма интересное наблюдение делает автор по поводу национальности Саломеи: в XIX веке, особенно в конце столетия, она изображалась как еврейка. Появление еврейства на европейской интеллектуальной сцене — один из главных вопросов эпохи fin de siècle. Об этой «опасности» писали Дрюмон, Чемберлен и особенно Отто Вейнинегер, прямо отождествлявший женщин и евреев. Возможно, в образе Саломеи слились две эти «опасности». Нежинская в своем анализе ограничивается внешними, косвенными факторами, она пишет, что «…по общему мнению, подтверждало национальную принадлежность Саломеи, так это то, что покупателями всех удачных картин с ее изображением были исключительно евреи. <…> это не только обсуждалось, но и называлось оскорбительным, поскольку, как считали их авторы, евреям недоставало художественного вкуса, и эти приобретения с их стороны являлись нахальными попытками изобразить из себя ценителей искусства».
Принципиально новый смысл вкладывали в образ Саломеи Стефан Малларме и Оскар Уайльд: «Малларме, например, во времена, когда Иродиада и Саломея воспринимались лишь как femmes fatales, приписал своей Иродиаде новую роль: она стала одновременным воплощением поэта и стихотворения в процессе его создания». Саломея бесконечно обсуждалась двумя авторами. Главу «Поэзия: Стефан Малларме» в некотором смысле можно назвать центральной — в ней происходит «перерождение» нашей героини. В незаконченной поэме «Иродиада» полностью переосмысливается представление о Саломее как роковой женщине: она становится образом-автопортретом поэта. Саломея-Малларме олицетворяет личность поэта, его внутренний мир и философию его творчества. Поэма была делом всей жизни Малларме; он считал, что нужно «изображать не саму вещь, но впечатление, которое она производит», и что «стих, следовательно, должен состоять не из слов, но из намерений, и все слова отступают перед чувственным переживанием». Нежинская пишет, что «Иродиада» должна была стать его литературно-философским манифестом — и одновременно достоверным портретом его души». В главе, посвященной пьесе Уайльда, Нежинская развивает мысль о том, что и уайльдовская Саломея «в каком-то смысле выражает его житейскую и творческую философию».
 Ричард Аведон. Оперная певица Карита Маттила в образе Саломеи
Ричард Аведон. Оперная певица Карита Маттила в образе СаломеиРассуждая об опере Штрауса «Саломея», Нежинская делает акцент на ее скандальности, однако музыкальный критик Алекс Росс в книге, посвященной музыке ХХ века, говорит, что «зрители одобрительно ревели — и это было самым неожиданным. „Ничего более сатанинского и художественного на немецкой сцене не случалось”, — восхищенно писал Дечи. <…> Когда кто-то заявил, что он скорее застрелится, чем запомнит мелодию из „Саломеи”, Штраус, к всеобщему изумлению, ответил: „И я тоже”». Вскоре «Саломею» поставили еще в двадцати пяти городах, но дело, конечно, не в этом (само собой, хватало и недовольных зрителей), а в том, что более тонкий музыковедческий анализ позволил бы лучше понять героиню оперы. Нежинская анализирует в первую очередь визуально-текстовую составляющую и заключает наконец, что «опера Штрауса, посредством музыки размышляющая над персонажами пьесы, превращает Саломею в фигуру почти шекспировского масштаба».
В целом «Саломея» — замечательное исследование, в котором на ярких примерах рассказывается, как не самый значительный библейский эпизод вырос в большой миф о femme fatale, «чрезвычайно усиливший страхи и желания, связанные с женщинами».