Аромат почвы: как Аполлон Григорьев стал последним русским романтиком
Игорь Перников — о судьбе и идеях выдающегося поэта-критика
Аполлон Григорьев (1822—1864), поэт и один из самых значительных критиков XIX века, друг Фета и Достоевского, автор уникальной критической системы и идеолог почвенничества, в конце жизни он называл себя «последний романтик» и «ненужный человек», а после смерти был забыт на полвека. Потом его наследие начали с восторгом открывать для себя литераторы времен Серебряного века, но и по сей день он остается одной из самых трагических и недооцененных фигур в русской интеллектуальной и литературной истории. О том, почему судьба Григорьева сложилась именно так, а также о его эпохе и идеях можно узнать из блестящей книги слависта Роберта Виттакера «Аполлон Григорьев. Последний русский романтик», которая вышла недавно в издательстве Common Place. По просьбе «Горького» об этой работе рассказывает Игорь Перников.
Роберт Виттакер. Аполлон Григорьев. Последний русский романтик. М.: Common Place, 2020
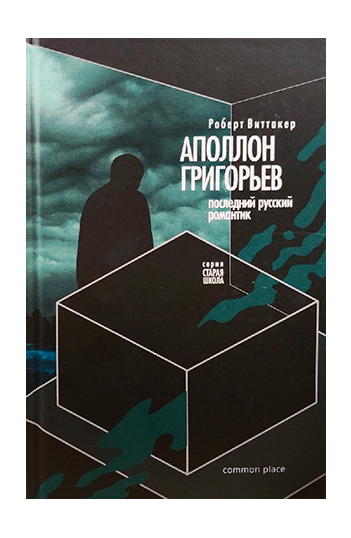 «Пушкин — наше все» — фраза, которая в современной России может означать все что угодно. Представители различных взглядов могут поднимать ее на щит, приводить как пример русского культурного колониализма или даже подтрунивать над ее тривиальностью. Между тем у этого высказывания был конкретный контекст и значение, за которым стояла система взглядов, разработанная нечасто вспоминаемым сегодня русским поэтом и критиком середины XIX века Аполлоном Григорьевым: его биография, написанная славистом Робертом Виттакером, совсем недавно вышла вторым изданием (первое было двадцать лет назад).
«Пушкин — наше все» — фраза, которая в современной России может означать все что угодно. Представители различных взглядов могут поднимать ее на щит, приводить как пример русского культурного колониализма или даже подтрунивать над ее тривиальностью. Между тем у этого высказывания был конкретный контекст и значение, за которым стояла система взглядов, разработанная нечасто вспоминаемым сегодня русским поэтом и критиком середины XIX века Аполлоном Григорьевым: его биография, написанная славистом Робертом Виттакером, совсем недавно вышла вторым изданием (первое было двадцать лет назад).
Аполлон Григорьев был очень интересным персонажем: почитатель европейской культуры и один из главных теоретиков русского почвенничества с хаотическим образом жизни, замечательный поэт и критик, чье критическое наследие, по мнению автора книги, значит даже больше, чем его поэзия. «Григорьев от самого отчаянного атеизма одним скачком переходил в крайний аскетизм и молился перед образом, налепляя и зажигая на всех пальцах восковые свечи», — вспоминал Фет, снимавший у родителей Григорьева комнату во время учебы в Москве. Все это говорит о том, что главной чертой Григорьева была двойственность, или парадоксальность, которую сам он считал чертой, присущей всякому русскому человеку. Таким Григорьева видел и Достоевский, который отмечал эту двойственность и называл его «русским Гамлетом» и «самым русским из русских». Именно Григорьев уже после смерти послужит прототипом для Дмитрия Карамазова.
Книга носит подзаголовок «Последний русский романтик» — такова была самоидентификация Григорьева в поздний период его творчества, и она действительно определяет его особое положение в культуре того времени. Сформировавшийся в юности под влиянием философии Гегеля, которому он впоследствии предпочтет Шеллинга, Григорьев пронес через всю жизнь идеи о роли личности в истории и искусстве, а также представления о произведении искусства как высшей форме реального. Не будет большим преувеличением сказать, что эти идеи он противопоставлял как главным идеологическим течениям своего времени, так и самой действительности.
Обретаясь где-то между западниками и славянофилами, между позитивистами и идеалистами, но никогда полностью не разделяя ни одну из этих позиций, Григорьев разработал собственный критический метод, получивший название «органическая критика», и с помощью него рассматривал ключевые художественные произведения своего времени. Его критика основывалась на своего рода идеализме, почерпнутом из поздней философии Шеллинга, и на самостоятельно разработанных Григорьевым понятиях «почва», «народность», «веяние» и других.
Но не стоит подозревать Григорьева в показном консерватизме, с которым сегодня принято связывать некоторые их этих понятий. Виттакер указывает, что подобная тенденция возникла сразу после смерти Григорьева, которого авторы некоторых журналов начинали в некрологах записывать в славянофилы — направление, к которому Григорьев относился столь же критически, как и к западникам. В большей степени указанные понятия зависят от принципов органической критики и с этой точки зрения вытекают из глубины реального и являются ее сутью — ее «идеалом». Опираясь на Шеллинга, Григорьев определял идеал как нечто ощутимое и реальное, обладающее «ароматом» и «цветом», которые источают реальные феномены, и благодаря этому ему удалось создать неповторимые метафоры, передающие отношение искусства к жизни.
 Одним из самых ярких примеров органической критики стал цикл статей, посвященных роли Пушкина в русской культуре. И роль эту тоже нельзя назвать консервативной или охранительной, поскольку она, по мысли Григорьева, сочетала в себе максимальную открытость внешнему с полновесным осознанием собственной самобытности:
Одним из самых ярких примеров органической критики стал цикл статей, посвященных роли Пушкина в русской культуре. И роль эту тоже нельзя назвать консервативной или охранительной, поскольку она, по мысли Григорьева, сочетала в себе максимальную открытость внешнему с полновесным осознанием собственной самобытности:
«А Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, — образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически-нашего. Сочувствия ломоносовские, державинские, новиковские, карамзинские, — сочувствия старой русской жизни и стремления новой, — все вошло в его полную натуру в той стройной мере, в какой бытие послепотопное является сравнительно с бытием допотопным, в той мере, которая определяется русскою душою. Когда мы говорим здесь о русской сущности, о русской душе, — мы разумеем не сущность народную допетровскую и не сущность послепетровскую, а органическую целость...»
Другой аспект органической критики — ее противоположность критике исторической или прогрессистской, в рамках которой история литературы рассматривается как бесконечное развитие от худшего к лучшему. Вместо этого органическая критика предлагает рассматривать особые связи, существующие между искусством и жизнью, и описание этих связей у Григорьева иногда приобретает едва ли не мистический оттенок:
«Для меня „жизнь” есть действительно нечто таинственное, то есть потому таинственное, что она есть нечто неисчерпаемое, „бездна, поглощающая всякий конечный разум”, по выражению одной старой мистической книги, — необъятная ширь, в которой нередко исчезает, как волна в океане, логический вывод какой бы то ни было умной головы, — нечто даже ироническое, а вместе с тем полное любви в своей глубокой иронии, изводящее из себя миры за мирами...
<...>
Но этот кипящий океан жизни оставляет постепенные отсадки своего кипения в прошедшем — и в прошедшем, то есть в отсадках-то этих, мы и можем уловлять органические законы совершившихся жизненных процессов, — больше еще: имеем право и возможность, уловивши в отсадках процессов несколько повторившихся не раз законов, умозаключать о возможности их нового повторения, хотя, конечно, в совершенно новых, неведомых нам формах. Затем, так как отсадки могут быть разбиты на известные категории и так как каждая категория жизненных процессов может быть названа известным именем, это имя, составляющее, так сказать, душу процесса, становится для нас на степень силы жизненной, породившей и руководящей этот процесс. Вместе с тем, рассматривая один за другим эти различные, как пласты, лежащие перед нами в отсадках процессы, мы не можем не видеть между ними преемственной логической связи, не можем, одним словом, не дойти до органического созерцания. Чтоб не дойти до него, мы должны совершенно насильственно и притом даже en pure perte [фр. „без всякой пользы”] остановить работу нашего мышления, ибо авось либо хоть на мышление не лишит нас прав новое учение. (Увы! на него-то именно и лишает! — просишь ты прибавить.)».
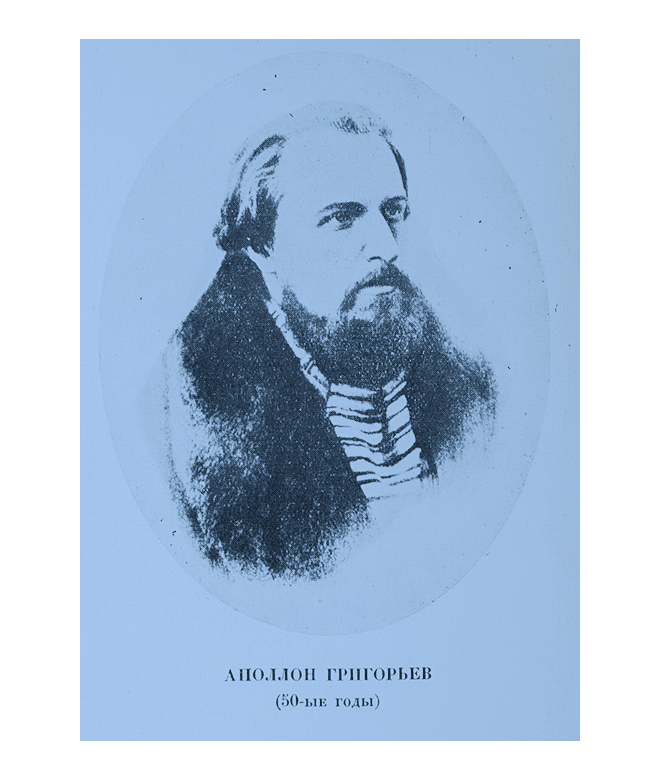 Чтобы лучше понять положения разработанного Григорьевым типа критики и его биографию, Виттакер погружает читателя в то время, в котором Григорьев жил. Нужно сказать, что получается это у него наилучшим образом, поскольку кроме подробно изложенного интеллектуального и жизненного пути Григорьева на страницах книги представлена также широчайшая перспектива его эпохи. Из нее мы узнаем, на каких постулатах основывались учения западников и славянофилов, как эти направления возникли, как менялась интеллектуальная атмосфера от десятилетия к десятилетию — и как менялись взгляды конкретных людей, с которыми Григорьеву в разное время приходилось жить и сотрудничать (а в их число входили Гоголь, Фет, Полонский, Островский, Толстой, Тургенев, братья Достоевские и многие другие).
Чтобы лучше понять положения разработанного Григорьевым типа критики и его биографию, Виттакер погружает читателя в то время, в котором Григорьев жил. Нужно сказать, что получается это у него наилучшим образом, поскольку кроме подробно изложенного интеллектуального и жизненного пути Григорьева на страницах книги представлена также широчайшая перспектива его эпохи. Из нее мы узнаем, на каких постулатах основывались учения западников и славянофилов, как эти направления возникли, как менялась интеллектуальная атмосфера от десятилетия к десятилетию — и как менялись взгляды конкретных людей, с которыми Григорьеву в разное время приходилось жить и сотрудничать (а в их число входили Гоголь, Фет, Полонский, Островский, Толстой, Тургенев, братья Достоевские и многие другие).
Хотя идеи Григорьева при его жизни и повлияли на некоторых крупных авторов — таких, например, как автор «Преступления и наказания», — но все же широкого признания не получили. Оно пришло только в начале следующего века, в эпоху модерна — зато пришло с большим шумом. Историк литературы Альфред Бем превозносил Григорьева как критика, на полстолетия опередившего свое время, а поэт и критик Владимир Княжнин провозглашал его «нашим современником». Александр Блок утверждал, что нападки Григорьева на «теоретиков» в письмах из Оренбурга вполне сопоставимы с идеями, высказанными Розановым в книге «Опавшие листья» (1913). Наибольшие же похвалы излил на Григорьева писатель и литературовед Леонид Гроссман. В статье «Основатель новой критики» (1914) он объявил Григорьева «одним из величайших европейских критиков новейшей формации» и первым (по значению) критиком России, превосходящим даже Белинского. Гроссман утверждал, что основные идеи Григорьева соответствуют последнему слову современной мысли: предшественник Бергсона и обладатель синтезирующего мировоззрения, Григорьев в толковании Гроссмана оказывался ближе современной науке, чем Белинский, Сент-Бёв, Карлейль или Тэн. «Органическая критика», по мнению Гроссмана, была важна не только как первая попытка в России создать законченную философскую систему литературной критики, но и оставалось лучшей и наиболее действенной системой.
Значительную часть книги занимает подробный анализ поэтических произведений Григорьева, в том числе лирических циклов «Борьба», «Титании», «Venezia la bella» и «Вверх по Волге», которые после пятидесятилетнего забвения вместе с другими григорьевскими стихотворениями издал высоко ценивший его поэзию Александр Блок.
Завершается книга исчерпывающим описанием роли уже самого Григорьева в истории русской культуры:
«Григорьев стоял на своей независимой точке зрения, остававшейся в пределах главных традиций русской мысли. За свою независимость он заплатил дорогой ценой: идя не в ногу с другими, он оказался в одиночестве. Он не только отстаивал свои взгляды, независимые от общепринятых в его дни, но и писал в манере и стиле, не похожих на манеру и стиль современников. Его сугубо личная, интроспективная, интимная манера подходит больше беседе, а не формальному трактату. Этот стиль соответствует тому необычному месту, которое Григорьев занимает в русской литературе — месту самого значительного критика-поэта. Русская литература знает многих поэтов-критиков: Ломоносов в восемнадцатом веке, Пушкин — в девятнадцатом, Блок — в двадцатом. Поэты, они были также авторами значительных критических работ. Критики, которые писали стихи, но для которых главной сферой деятельности была все же критика, — редкое явление в русской литературе. О Григорьеве можно, пожалуй, сказать, что он писал критику в лирическом стиле. Естественно, что его современники — братья по цеху — жаловались, что его стиль не соответствует принятому стандарту.
Григорьев, конечно, не был последним в России романтиком. Но он был последним представителем первого и самого продолжительного в России романтического периода, длившегося с конца восемнадцатого по середину девятнадцатого века. Как последний русский романтик Григорьев исповедовал все патентованные принципы романтизма: абсолютные идеалы, национальную самобытность, искусство как высшую форму выражения и познания. Себя он назвал „ненужным человеком”, и в этом самоопределении слышатся нотки не только вызова утилитарным требованиям современных ему критиков-позитивистов, но и отчаяния из-за падения дорогих ему романтических ценностей. Даже сейчас он остается мостом, перекинутым в прошлое, каким видел его Блок. Тем, кто сегодня изучает русскую литературу, культуру России и необъятную душу русского национального характера, хорошо пройти по этому мосту — возвратиться в последние годы романтической эры и познакомиться с „органическим” взглядом Григорьева на ту культуру и на время, в которое он жил».
За подробностями рекомендуем обратиться непосредственно к книге о последнем русском романтике.