Архимандрит+
Шесть новых книг, заслуживающих вашего внимания
Джозеф Макэлрой. Плюс. СПб.: Pollen Press, 2019. Перевод с английского М. Нестелева и А. Мирошниченко
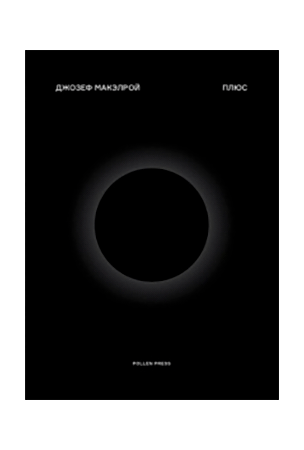 Впервые на русском — роман Джозефа Макэлроя, «одного из самых сложных писателей Америки», если верить книжным критикам. «Плюс», увидевший свет в 1977-м, с некоторой натяжкой можно назвать научной фантастикой. Повествование представляет собой монолог бестелесного мозга по имени Имп Плюс, в рамках научного эксперимента помещенного на земную орбиту. «С натяжкой», потому что главным героем романа, по существу, является аутопоэтический поток речи, в котором лишенное плоти сознание «отращивает» себя, свое тело и собственный мир — из пустоты и в пустоте. Сказать при этом, что роман сводится к лингвистической зауми, язык не поворачивается: это самая что ни на есть своевременная антропология по ту сторону человеческого. Любовно изготовленное издание стало возможным благодаря участникам краундфандинговой кампании и героической команде фанзина Pollen.
Впервые на русском — роман Джозефа Макэлроя, «одного из самых сложных писателей Америки», если верить книжным критикам. «Плюс», увидевший свет в 1977-м, с некоторой натяжкой можно назвать научной фантастикой. Повествование представляет собой монолог бестелесного мозга по имени Имп Плюс, в рамках научного эксперимента помещенного на земную орбиту. «С натяжкой», потому что главным героем романа, по существу, является аутопоэтический поток речи, в котором лишенное плоти сознание «отращивает» себя, свое тело и собственный мир — из пустоты и в пустоте. Сказать при этом, что роман сводится к лингвистической зауми, язык не поворачивается: это самая что ни на есть своевременная антропология по ту сторону человеческого. Любовно изготовленное издание стало возможным благодаря участникам краундфандинговой кампании и героической команде фанзина Pollen.
«Он подумал не отвечать, и мысль эта была новой, и он ощутил след этой мысли повсюду, и, словно луч, он упал повсюду за следом, который был брешью рядом с его сердце-виной, но на одной линии с наклонением, который был больше градиента, хотя и градиентом.
ПОСТОЙТЕ ИМП ПЛЮС. СЕЙЧАС ГЛЮКОЗА ПОДНЯЛАСЬ. ГЛЮКОЗА ПОДНЯЛАСЬ.
Имп было словом. Плюс тоже. По Концентрационной Цепи Имп Плюс отвечал на сообщения с Земли, которая использовала слова Имп Плюс. Имп Плюс мог разговаривать.
ИМП ПЛЮС ЦЕНТРУ: ЭТО ОТРОСТКИ ОПТИЧЕСКИХ СТЕБЛЕЙ?»
Славой Жижек, Франк Руда, Агон Хамза. Читать Маркса. М.: Издательский дом ВШЭ, 2019. Перевод с английского Д. Кралечкина
 Три философа затеяли перечитать Маркса — не для того, чтобы найти в священных текстах ключ от светлого будущего, а скорее с целью их «деканонизировать», перетряхнуть и применить к мрачному настоящему в качестве интеллектуального ломика. Жижек предлагает представить, как отреагировал бы автор «Капитала» на идеи объектно-ориентированных онтологов, — и, если верить словенцу, Маркс оказался бы куда более благодушным, чем можно предположить. Руда рассуждает, как платоновская аллегория пещеры — «один из древнейших мифов об освобождении» — может прояснить капиталистическую (т. е. нашу с вами) субъективность. Хамза, наконец, воображает, как бы Гегель доработал марксовскую теорию труда, если бы ему довелось с ней столкнуться.
Три философа затеяли перечитать Маркса — не для того, чтобы найти в священных текстах ключ от светлого будущего, а скорее с целью их «деканонизировать», перетряхнуть и применить к мрачному настоящему в качестве интеллектуального ломика. Жижек предлагает представить, как отреагировал бы автор «Капитала» на идеи объектно-ориентированных онтологов, — и, если верить словенцу, Маркс оказался бы куда более благодушным, чем можно предположить. Руда рассуждает, как платоновская аллегория пещеры — «один из древнейших мифов об освобождении» — может прояснить капиталистическую (т. е. нашу с вами) субъективность. Хамза, наконец, воображает, как бы Гегель доработал марксовскую теорию труда, если бы ему довелось с ней столкнуться.
«Картезианская „пещера” не является ни естественным человеческим положением (природа не обманывает нас), ни просто культурным (мы не находимся в метафорической пещере, в тюрьме чужих мнений, в которой мы были бы неспособны к нешаблонному мышлению). Скорее, genius malignus, злокозненный демон, создал фальшивый мир, который нам представляется совершенно естественным. Только пройдя через этот фантастический сценарий пещеры, Декарт достигает точки абсолютной достоверности („Я мыслю”, в чем даже злокозненный создатель пещеры не может меня обмануть.) В определенном смысле ранний Маркс переписывает этот сценарий, изображая отчуждение, к которому людей склонил genius malignus капитализма и его дисциплинарный режим труда, в категориях человеческой предыстории, т. е. состояния, выйти из которого следует в революционной деятельности тех, кому „нечего в ней терять, кроме своих цепей”. Но вспомним о том, что выйти из него можно только благодаря другому теневому существу — призраку коммунизма. Альфред Зон-Ретель, получается, обнаружил связь с аллегорией пещеры у позднего Маркса, когда отметил, что „капиталистические производственные отношения” в конечном счете являются „контекстом обмана, в котором каждая вещь помогает любой другой выглядеть нормальной”».
Архимандрит Спиридон (Кисляков). Я хочу пламени. Жизнь и молитва. М.: Эксмо, 2019
 Покровитель бедняков и каторжан, резкий антивоенный проповедник, противник замирения с большевистской властью архимандрит Кисляков (умер в 1930-м) был при жизни неудобной для официальной церкви фигурой. И остается ей как автор, например, такой цитаты: «Современное государство — самый ярый и жестокий враг Христу, а второй его враг, нисколько не уступающий по своей жестокости и коварству государству, само продажное и торгующее Христом духовенство». В книгу по-раннехристиански радикального священника вошли прежде не публиковавшиеся фрагменты дневника и воспоминаний о жизни до 1917 года. Щедрое на детали бытописание дополняет напряженная хроника молитв и духовных размышлений, искренний отчет о порывах, исканиях, сомнениях и эсхатологических видениях.
Покровитель бедняков и каторжан, резкий антивоенный проповедник, противник замирения с большевистской властью архимандрит Кисляков (умер в 1930-м) был при жизни неудобной для официальной церкви фигурой. И остается ей как автор, например, такой цитаты: «Современное государство — самый ярый и жестокий враг Христу, а второй его враг, нисколько не уступающий по своей жестокости и коварству государству, само продажное и торгующее Христом духовенство». В книгу по-раннехристиански радикального священника вошли прежде не публиковавшиеся фрагменты дневника и воспоминаний о жизни до 1917 года. Щедрое на детали бытописание дополняет напряженная хроника молитв и духовных размышлений, искренний отчет о порывах, исканиях, сомнениях и эсхатологических видениях.
«Я увидел себя в самой бездне этих ужаснейших антихристианских церковных преступлений! Вот и сейчас, думал я, состою военным священником. Состоять же военным священником ― это значит и Святое Евангелие, и все таинства Церкви, и, наконец, Самого Христа превращать в такой материал, из которого всякий военный священник создает такой страшный фундамент, на котором сам диавол воздвигает для себя и всего мира свою церковь, свои таинства и, наконец, главой сей сатанинской церкви ставит себя самого! Размышляя так, я тотчас почувствовал в себе самом такое мерзкое отвращение к себе самому, что даже и сказать не могу. Тут я понял, что я представляю из себя самого отца сатаны! В это время я вспомнил все свои прежние грехи и беззакония, вспомнил их ― и ужаснулся. Но когда к этим грехам я присовокупил настоящее мое сатанинское служение войне и предательское и преступное мое принесение на алтарь сей войны и Самого Христа, и Его святой Церкви со всеми ее таинствами, ― вспомнил я все это и тотчас застыл на месте. Холодный пот выступил на челе моем».
Барбара Эрлих-Уайт. Ренуар. Частная жизнь. СПб.: Азбука, 2019. Перевод с английского А. Глебовской
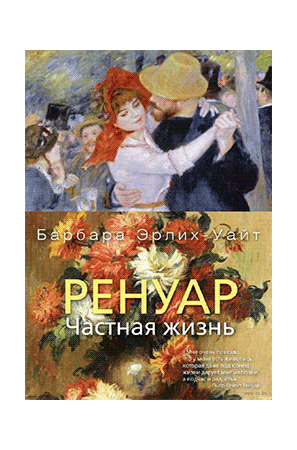 Во введении искусствовед Барбара Эрлих-Уайт сообщает, что эта книга — «результат пятидесяти шести лет профессионального изучения работ Ренуара, его личности и характера». О чем она умалчивает (хотя это читается между строк), так это о том, что биография написана человеком, бесконечно влюбленным в объект своего изучения. В английском названии фигурирует прилагательное «intimate», и действительно, жизнь художника излагается не столько в исторической, сколько в домашней, бытовой и даже наивной перспективе (что можно счесть как плюсом, так и минусом). От биографии Паскаля Бонафу, которая выходила в серии «ЖЗЛ», труд Эрлих-Уайт отличает куда большая обстоятельность и привлечение уникальных источников: в основу работы легли тысячи писем (в основном неопубликованных), дневниковые записи и воспоминания.
Во введении искусствовед Барбара Эрлих-Уайт сообщает, что эта книга — «результат пятидесяти шести лет профессионального изучения работ Ренуара, его личности и характера». О чем она умалчивает (хотя это читается между строк), так это о том, что биография написана человеком, бесконечно влюбленным в объект своего изучения. В английском названии фигурирует прилагательное «intimate», и действительно, жизнь художника излагается не столько в исторической, сколько в домашней, бытовой и даже наивной перспективе (что можно счесть как плюсом, так и минусом). От биографии Паскаля Бонафу, которая выходила в серии «ЖЗЛ», труд Эрлих-Уайт отличает куда большая обстоятельность и привлечение уникальных источников: в основу работы легли тысячи писем (в основном неопубликованных), дневниковые записи и воспоминания.
«Алина и сама начала утверждать свою власть: она напрашивалась на комплименты и получала предсказуемый ответ. Однажды, в письме из Эссуа, она задала ему вопрос, считает ли он ее уродкой. Ренуар ответил: „Милая моя и любимая, только что прочел твое письмо, полное отчаяния и озорства, потому что ты хочешь, чтобы я ответил комплиментами. Знаешь что? Никакая ты не уродка. Напротив, ты невероятно красива... Не могу сказать, красавица ты или уродка, но знаю, что мне очень хочется снова шалить... Если скажешь, я приеду и поселюсь рядом с Эссуа, раз уж ты не хочешь возвращаться, и загляну к тебе на денек... потому что, хотя ты и уродка, мне хочется целовать тебя во все правильные места, и это безумное желание... Шлю тебе издалека свою любовь... Схожу по тебе с ума. Огюстен”. Та самая любовь, которую Ренуар столь страстно выражает в письме, получила наглядное воплощение в его величайшем шедевре „Танец в Буживале” (1883)».
Михаил Велижев. Цивилизация. Спб.: Издательство Европейского университета, 2019
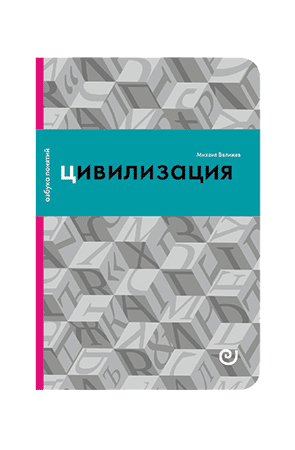 В отсветах горящего Нотр-Дама вопросы об актуальности биографии такого понятия, как «цивилизация», кажутся излишними — хотя они редко возникают у тех, кто ими пользуется направо и налево, рассуждая о «конфликте» или «закате» цивилизаций. Велижев, специалист по истории идей, доступно, без лишних академических реверансов излагает, как и зачем изобретается концепт и расписывает его карьерный маршрут по интеллектуальным кухням мыслителей — от Мирабо до Хантингтона. Особое внимание автор уделяет приключениям понятия в России, вылившимся в представления об особой «русской цивилизации».
В отсветах горящего Нотр-Дама вопросы об актуальности биографии такого понятия, как «цивилизация», кажутся излишними — хотя они редко возникают у тех, кто ими пользуется направо и налево, рассуждая о «конфликте» или «закате» цивилизаций. Велижев, специалист по истории идей, доступно, без лишних академических реверансов излагает, как и зачем изобретается концепт и расписывает его карьерный маршрут по интеллектуальным кухням мыслителей — от Мирабо до Хантингтона. Особое внимание автор уделяет приключениям понятия в России, вылившимся в представления об особой «русской цивилизации».
«Трактат „Россия и Европа” и дискуссии времен Русско-турецкой войны 1877–1878 годов завершили эпоху в истории становления политического термина „цивилизация” в русском языке. Началось все с попытки Ястребцова найти русский особый путь на общеевропейском пространстве, затем Уваров, вослед немцам, успешно связал цивилизацию со сферой просвещения и образования, сделав акцент на грядущем торжестве русской национальности, но все же внутри европейского контекста. Наконец, Данилевский подвел итог — славянская цивилизация не шла по одному пути со всем миром, более того, он поставил под сомнение и саму просветительскую идею единой всемирной истории. Отныне цивилизация связывалась с замкнутыми и враждебными друг другу культурно-историческими типами, имевшими между собой мало общего».
Филип Френч. Беседы с Луи Малем. М.: Rosebud Publishing, 2019. Перевод с английского С. Козина
 Режиссера Луи Маля часто причисляют к французской «новой волне», из-за чего он словно бы теряется в тени Годара и Трюффо. Между тем Малю всю жизнь было тесно в рамках одного жанра или направления — у него даже фильмы не похожи друг на друга, хотя сохраняют единство интимной интонации. Как ни странно, схожая интонационная задушевность ощущается и в сборнике интервью, который поможет отечественному зрителю навести на Маля исключительную резкость. Создатель «Милы в мае» и «Лифта на эшафот» предстает в беседах с известным критиком Филипом Френчем открытым, вдумчивым и, что не характерно для больших художников, совершенно незлобивым.
Режиссера Луи Маля часто причисляют к французской «новой волне», из-за чего он словно бы теряется в тени Годара и Трюффо. Между тем Малю всю жизнь было тесно в рамках одного жанра или направления — у него даже фильмы не похожи друг на друга, хотя сохраняют единство интимной интонации. Как ни странно, схожая интонационная задушевность ощущается и в сборнике интервью, который поможет отечественному зрителю навести на Маля исключительную резкость. Создатель «Милы в мае» и «Лифта на эшафот» предстает в беседах с известным критиком Филипом Френчем открытым, вдумчивым и, что не характерно для больших художников, совершенно незлобивым.
«Я всегда остерегаюсь громких заявлений — особенно в печати, где они выглядят как изречения. Однако я думаю, что главное для художника — создать мир, определенный его собственным стилем и видением. В то же время я восхищаюсь теми, кто всегда готов к чему-то новому и не держится за одну и ту же технику, одну и ту же модель.
В живописи возьмите, например, Жоржа де ла Тура. Он был одержим определенной техникой передачи света и бесконечно повторял в своих картинах один и тот же эффект. У де ла Тура был свой мир, но я предпочитаю художников, которые всегда готовы расширить его границы. Поэтому из художников я больше всех ценю Матисса. Даже больше, чем Пикассо, хотя Пикассо был большим виртуозом, настоящим хамелеоном. Я люблю Матисса за терпеливый, вдумчивый подход к расширению своих горизонтов: он всегда стремится к простоте, к основам».