Апология пустозвонства
Николай Проценко о книге Стива Фуллера «Социология интеллектуальной жизни»
В издательстве «Дело» вышла книга Стива Фуллера «Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне академии», в которой идет речь о расхождениях между интеллектуалами и академиками, производстве разных типов знания, этике и политике интеллектуальной жизни. По просьбе «Горького» об этой работе рассказывает Николай Проценко.
«Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне академии» — первая опубликованная на русском языке книга англо-американского философа и социолога Стива Фуллера, ученого с весьма широким спектром интересов: от социальной эпистемологии до трансгуманизма. Фуллер издал ее в 2009 году, в возрасте 50 лет, занимая должности профессора Уорикского университета (Англия) и президента секции социологии Британской ассоциации содействия прогрессу науки.
«Социология интеллектуальной жизни» разделена на четыре главы в соответствии с предлагаемой Фуллером версией социальной эпистемологии, которую он определяет как «междисциплинарное поле, занимающееся эмпирическими и нормативными основаниями производства и распределения знания». По Фуллеру, социальная эпистемология фокусируется на организационных формах знания, ассоциирующихся с академическими дисциплинами. Поэтому в первой главе автор рассматривает гумбольдтовский проект университета как институцию, послужившую «распространению той формы интеллектуальной свободы, которая стала двигателем прогрессивной трансформации общества». Вторая и третья главы книги Фуллера посвящены, соответственно, двум другим составляющим исходного гумбольдтовского проекта — философии и интеллектуалам, а в завершающей четвертой предпринята защита «важного, но повсеместно презираемого аспекта интеллектуальной жизни — ее импровизационной природы».
По сути, каждая из четырех глав представляет собой отдельное эссе — меньше всего Фуллер заботится о том, чтобы следовать на протяжении всей книги какой-то сквозной теме. Эффект «парения над темой» достигается за счет постоянных скачков между именами и теориями, что в целом соответствует общей установке автора, убежденного последователя главного теоретика эпистемологического анархизма Пола Фейерабенда. У Фуллера эта установка получает закономерное творческое развитие. «Нет никаких оснований думать, что истина имеет какое-то отношение к моим убеждениям, — пишет он в конце книги. — Это совершенно точно не значит, что истина абсолютно недоступна моему пониманию. Однако я принимаю всерьез идею, что вера, понимаемая как информированная ментальная диспозиция, — только один из доступных нам способов доступа к истине. Другой, порой даже более эффективный способ, — отстаивать ту позицию, в которую не веришь».
Характерный пример такого подхода Фуллер демонстрирует в своем отношении к доктринам креационизма, которые, как он считает, имеют полное право на «прописку» в академических стенах (аналогичную точку зрения разделял и Фейерабенд). «Теории, прежде считавшиеся опровергнутыми, получат новое право на жизнь, когда студентам придется самостоятельно определять истинную ценность дарвинизма по сравнению с теми теориями, которые могли бы возникнуть, если бы одна из альтернатив была соответствующим образом разработана. Присутствие этих исторических альтернатив также ярче высветило бы неименные концептуальные и эмпирические затруднения дарвинизма, которые обычно затемняются его статусом парадигмы в биологии. Для биологии такой проект может показаться радикальным, но он хорошо знаком преподавателям социологии, для которых ни одна теория прошлого не является полностью отброшенной», — говорит Фуллер, настаивая, что утверждения о необходимости защиты общества от подобных взглядов равносильны признанию того, что оно не доросло до права на интеллектуальную свободу.
Все эти заигрывания с креационизмом выглядят вполне безобидно на фоне другого «свежего» предложения Фуллера — с вниманием отнестись к аргументам об отрицании холокоста: «Эта гипотеза, скорее всего, неверна, но все же она заслуживает того, чтобы ее самая сильная версия была подвергнута критической проверке… В конце концов, цифры „6 000 000 евреев” впервые появились в результате сделанной на скорую руку приблизительной оценки во время Нюрнбергского процесса в 1946 году. В нормальном случае цифры, появившиеся в столь политизированных обстоятельствах, были бы встречены горячим обсуждением, если не откровенным скептицизмом… Стало бы меньше наше моральное возмущение, если бы мы узнали, что нацисты уничтожили 6000 евреев, а не 6 000 000? Возможно — особенно если не доверять зрелости нашего коллективного морального суждения».

Стив Фуллер
Фото: blogs.scientificamerican.com
Дело тут даже не в том, что подобная логика рассуждения абсолютно цинична — в конечном итоге, Фуллер нигде на протяжении 350 страниц своей книги не говорит, что интеллектуал должен быть образцом высокой морали. Гораздо хуже то, что автор в дальнейшем открыто изменяет заявленному подходу в одной из глав, посвященных Хайдеггеру, в отношении которого воспроизводит стандартный набор инвектив: нацистский философ и т. д. И уж совсем плохо то, что «пропитанного нацизмом» Хайдеггера Фуллер читал, скорее всего, крайне поверхностно, иначе не стал бы сходу записывать его в экзистенциалисты и ставить на одну доску с тем же Сартром как возможной интеллектуальной альтернативой (здесь можно вспомнить известный факт, что главный труд Сартра «Бытие и ничто», хранящийся в архиве Хайдеггера, разрезан лишь на первых сорока страницах). Тем более что хайдеггеровское «Бытие и время» было задумано и написано задолго до «нацистского ректорства».
«Провал Хайдеггера как интеллектуала — не в его нацизме, а в его трусости… Моральная проблема Хайдеггера была другой: он открыто поддерживал нацистов только до тех пор, пока, как ему казалось, они его слушали. Как только их пути разошлись, он просто замолк, даже когда ему был предложен шанс прояснить свою позицию после войны. Как интеллектуал Хайдеггер был обязан либо переутвердить, либо отозвать свой прежний нацизм, но вместо этого он предпочел молчание», — заявляет Фуллер. Как совместить подобную безапелляционность с его позицией в отношении тех, кто отрицает холокост, не вполне понятно.
Столь же пренебрежительно Фуллер высказывается и о ряде других ключевых интеллектуалов ХХ века. «Феерическое отсутствие воображения под личиной интеллектуальной честности» — это, к примеру, о Людвиге Витгенштейне, который, как предполагает Фуллер, мог быть «виртуозом пустозвонства» (в оригинале bullshit с отсылкой к названию нашумевшей книги Гарри Франкфурта, выходившей по-русски под заголовком «О брехне»), умело, впрочем, игравшим роль разоблачителя пустозвонства. Здесь автору, пожалуй, стоило бы напомнить последнюю фразу «Логико-философского трактата» — «О чем невозможно говорить, о том следует молчать», — но есть ли в этом смысл, если Фуллер в своей аргументации апеллирует не к корпусу текстов Витгенштейна, а к неким расхожим представлениям и анекдотам о нем? Тут же походя Фуллер вспоминает Луи Альтюссера, который якобы «признал в мемуарах, что большую часть знаний о Марксе он почерпнул из слухов и работ своих студентов» (никаких ссылок на самого Альтюссера при этом не приводится). Едва ли корректно подозревать столь уважаемого автора в том, что он не читал Витгенштейна, но все тот же стиль «парения над темой» не исключает и этого. Вспоминается эпизод из знаменитого «университетского» романа Дэвида Лоджа «Академический обмен», где на филфаке американского университета существовал клуб профессоров, которые не читали тот или иной классический текст, например, «Илиаду» или «Дон Кихота». Собственно, и сам Фуллер, защитивший диссертацию доктора философии в Питтсбургском университете США и затем перебравшийся в Англию, чем не лоджевский профессор Моррис Цаппс с аналогичной карьерной траекторией?
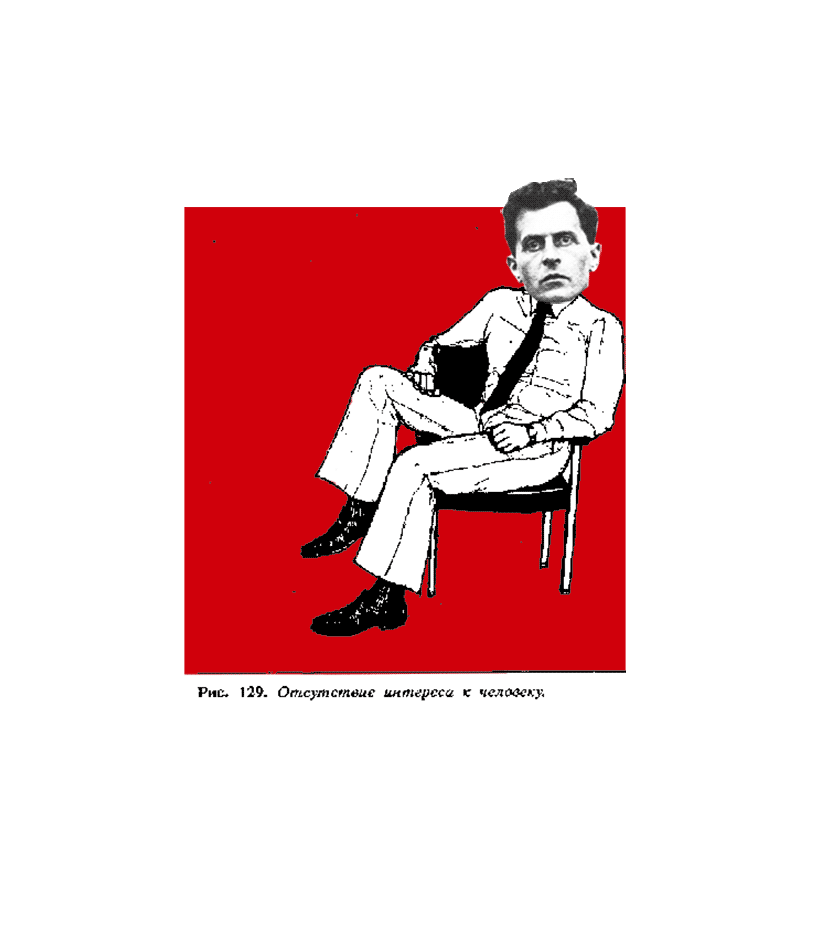
Столь явные вольности в рецензии на книгу Фуллера едва ли были бы допустимы, если бы ее автор сам их не провоцировал, предлагая по сути развернутую апологетику пресловутого пустозвонства. «Пустозвонство повсюду и, в частности, среди тех, кто жаждет его обнаружить и элиминировать. Но разве это плохо?» — вопрошает Фуллер, приводя среди прочего и политический аргумент, «касающийся свободы самовыражения — сердца демократии, или того, что Карл Поппер назвал „открытым обществом”: любой может пустозвонствовать в свое удовольствие, если мы все договоримся о том, как после этого наводить порядок». Ключевое слово в последнем пассаже — «если»: выполнимость этого условия столь же проблематична, как и то, что студенты, ознакомившись с идеями креационизма в академических стенах, смогут «самостоятельно определять истинную ценность дарвинизма». Но этих простых выводов развеселый bullshit-релятивизм в исполнении Фуллера, очевидно, не подразумевает.
Не претендует он, похоже, и на осуществление «классической миссии интеллектуала — говорить истину в лицо власти», хотя именно за это Фуллер критикует Томаса Куна, одного из немногих, кому он не предъявляет серьезных претензий. Но и Кун в конечном итоге не остается вне подозрений, ведь в годы Холодной войны «почти каждый философ науки, которого можно было бы назвать соперником Куна — Поппер, Фейерабенд, Лакатос и Тулмин, — высказывался против влияния военнопромышленного комплекса на науку; и все же Кун держал свое мнение при себе».
Здесь стоит еще раз указать, что книга Фуллера вышла в 2009 году, в момент глобального финансового кризиса, когда едва ли не каждый интеллектуал считал своим долгом высказаться о его природе и последствиях. Однако Фуллер, очевидно, в духе тех интеллектуалов, которые «склонны придерживаться того, что им лучше всего известно, и решают не пятнать свою научную репутацию политической ангажированностью», вообще не касается этой темы, как будто и не было никакого кризиса.
В качестве контрпримера здесь можно вспомнить такого классика американской макросоциологии, как Рэндалл Коллинз, который в связи с кризисом 2008–2009 годов призвал обратиться к подзабытой марксовой теории технологического замещения труда — и как в воду глядел, поскольку ему удалось очертить главную коллизию «цифровой экономики», затрагивающую, разумеется, и труд интеллектуалов. Коллинзу с его монументальной «Социологией философий» от Стива Фуллера тоже досталось: тот, мол, в своем главном труде настолько увлекся логикой, метафизикой и эпистемологией, что фактически упустил теорию ценности, и в результате сам Макиавелли в его книге оказался упомянут всего лишь раз, и то в контексте обсуждения некоего японского философа. Единственный здравый ответ на подобные инвективы — нельзя объять необъятное; если, конечно, не следовать курсом «парения над темой». «Знать кое-что обо всем и все кое о чем» — этому принципу викторианских джентльменов Фуллер следует неукоснительно.
Конечно, нельзя сказать, что вся книга Фуллера к этому и сводится — но там, где автор действительно убедителен, он следует курсом все того же Коллинза. К примеру, вот как Фуллер описывает преемственность поколений в британской философии: «Неакадемические корни наиболее характерных направлений британской философии XIX века являются общепризнанными. Разумеется, знаменитое шотландское Просвещение с середины по конец XVIII века… было университетским движением с центрами в Эдинбурге и Глазго. Но эти шотландцы были англофилами в образовательной системе, где все еще господствовала Шотландская Церковь… Фигуры шотландского Просвещения, таким образом, в первой половине XIX века не имели серьезного академического влияния. Юм был заново открыт Гексли в качестве протодарвиниста на волне антиклерикализма, последовавшей за изданием „Происхождения видов”… Наследие Смита и Фергюсона было куда быстрее освоено интеллектуальной средой Англии XIX века благодаря движениям, которые в дальнейшем приняли вид политической экономиии социологии… Здесь я имею в виду журналистскую деятельность и памфлеты таких лондонских интеллектуалов, как Иеремия Бентам, Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер — и, конечно же, немецкого экспатрианта Карла Маркса. Творчество этих авторов встретило значительное институциональное сопротивление со стороны Оксфорда и Кембриджа. „Революция”, начало которой было положено „Принципами этики” Дж. Э. Мура (1903) и которая в итоге привела к господству аналитической традиции во всей англоязычной философии, может быть рассмотрена как реакционный ход британских академиков, почуявших, что их авторитет пытаются подорвать „аутсайдеры”, зачастую придерживавшиеся „радикальных” взглядов, которые угрожали их заработку в качестве не только представителей философской профессии, но и учителей будущих элит». Чем не пассаж из «Социологии философий»?
Но такие действительно захватывающие фрагменты в книге Фуллера, к сожалению, встречаются нечасто. Поэтому для ответа на вопрос, стоит ли читать ее полностью, лучше начать с эпилога в несколько страниц с совершенно обескураживающим финалом: «Для дела истины в долгосрочной перспективе лучше высказывать не то, во что веришь, а то, что наилучшим образом можно высказать и отстаивать из имеющейся позиции. Эта контринтуитивная максима резюмирует импровизационную природу интеллектуальной жизни, в то же время иллюстрируя глубокий эпистемический вывод: все не то, чем кажется». Так держать, Кэп!