Апокалипсис навсегда
О книге Якоба Таубеса «Западная эсхатология»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Якоб Таубес. Западная эсхатология. СПб.: Владимир Даль, 2023. Перевод с немецкого А. Шурбелёва. Содержание
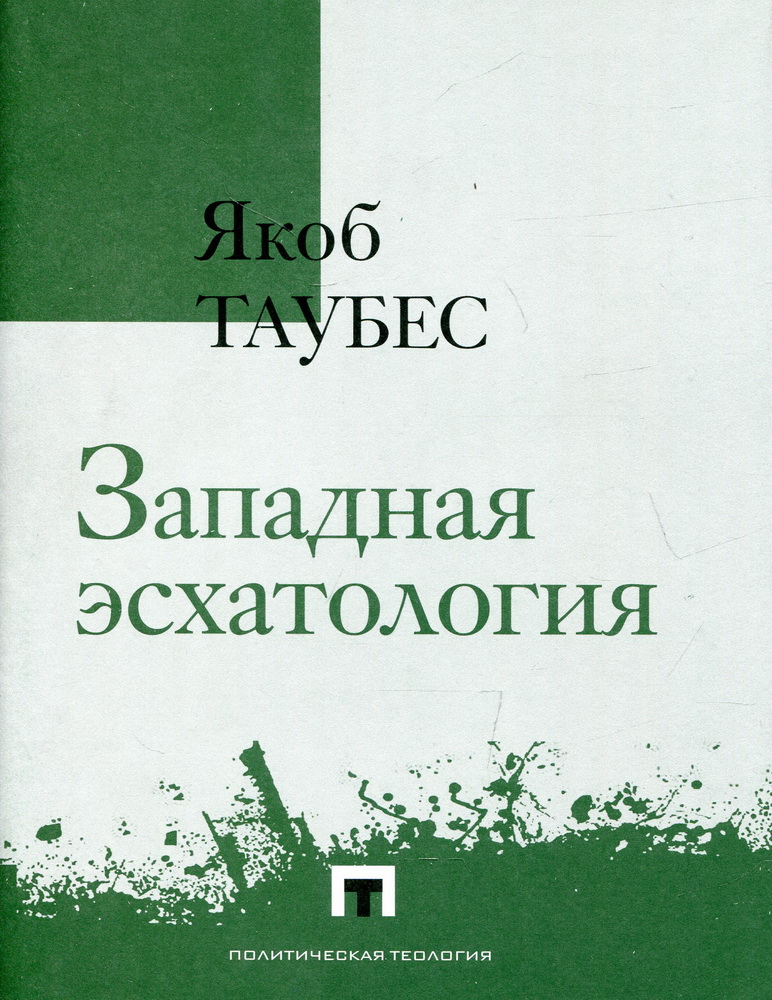 До середины XVII века никому бы не пришло в голову проводить границу между политикой и религией. Теологические доктрины веками оправдывали и объясняли существующую вертикаль власти и структуру общества. Даже идея бюрократии была вдохновлена, как считает антрополог Дэвид Гербер, христианским учением об ангелах, которые пребывают в системе жесткой иерархии.
До середины XVII века никому бы не пришло в голову проводить границу между политикой и религией. Теологические доктрины веками оправдывали и объясняли существующую вертикаль власти и структуру общества. Даже идея бюрократии была вдохновлена, как считает антрополог Дэвид Гербер, христианским учением об ангелах, которые пребывают в системе жесткой иерархии.
Явным образом единство политики и религии стало слабеть только после Вестфальского мира 1648 года, которым завершилась серия кровавых религиозных войн в Европе. Действенность религии как движущей политической силы стала слабеть. Начинают развиваться централизованные государства Нового Времени. Впоследствии триумф идей Просвещения и демократизация знаний привели к представлению, будто политика и, если шире, гражданское общество окончательно сепарировались от религии. От нее если что-то и осталось, то лишь реликты на уровне политического церемониала и символических жестов. Даже Макс Вебер, который доказывал влияние протестантской этики на развитие капитализма, в конце своего знаменитого труда признавал, что в современном виде капитализм оторвался от религиозных корней и воспроизводится исключительно за счет «механического машинного производства».
События недавнего прошлого показали, насколько поспешными оказались повсеместные декларации о разводе религии и политики. И лозунги большевистской революции, и настроения шиитских демонстрантов на улицах Тегерана 1979 года, и действия сторонников движения Black Lives Matter, которые буквально канонизировали Джорджа Флойда, пронизаны сакральными смыслами. Религиозные практики и идеи продолжают пользоваться таинственным спросом в мире политического.
Ответам на вопросы о том, почему секуляризация так и не состоялась в полном объеме и как в условиях Модерна политические и теологические понятия чудесным образом сопрягаются, посвящен целый корпус текстов, которые принято относить к интеллектуальной традиции политической теологии. Диссертация Якоба Таубеса «Западная эсхатология», защищенная в 1947 году, — важный и довольно поучительный текст этой традиции. Немецкий философ и религиовед попытался показать, что эсхатология, то есть учение о конце света, обладает политическим измерением, а идея Апокалипсиса, хоть и в светском виде, продолжает в современном политическом поле играть роль дискурсивного «топлива».
 @bournrich / @impermanent_art / Urban Art Mapping Research Project
@bournrich / @impermanent_art / Urban Art Mapping Research Project
Политика — это движение к концу света
По Таубесу, эсхатология — это не просто богословское учение, а оптика, в которой мир открывается как огромная несправедливость. «Апокалипсис — по самому смыслу слова — это снятие покрова», пишет Таубес, говоря о разоблачающей силе этой идеи. Поэтому эсхатологический взгляд — это всегда удвоение: он видит наличный мир, в котором все искажено, и должный, в котором все существует так, как задумал Бог. Борьба между этими мирами становится условием для активации политики, которая совершается на арене истории. Эсхатологический взгляд, таким образом, оказывается близок не только гностицизму с его жесткой оппозицией Бога и мира, но и современным левым, хотя последние вроде бы далеки от традиционной религиозности.
Мостиком между миром эсхатологии и миром марксизма, говорит Таубес, становится глубокое неприятие существующего порядка вещей. Отчуждение, данное в реальности социального мира, должно быть снято триумфом вечности и справедливости. Об этом ветхозаветный пророк и левый гегельянец вряд ли станут спорить, просто первый имеет в виду отчуждение мира от Бога, а второй — отчуждение человека от своей родовой сущности. «Тема самоотчуждения уже вбирает в себя все элементы апокалиптической панорамы, низвержение в чуждый мир и путь к искуплению», — пишет автор «Западной эсхатологии».
К слову, Таубес даже на уровне языка регистрирует эсхатологические мотивы у Маркса: «Для языка апокалиптической литературы характерны пассивные конструкции. В апокалиптике никто не „действует“: скорее все просто „происходит“, „совершается“ <...> Маркс тоже видит в истории некие высшие силы, на которые никак не может повлиять отдельный человек, и облачает их — понимая их как „производительные силы“ — в мифологические одеяния своего времени».
Преодоление отчуждения возможно только в революции, которая для Таубеса является не ступенью в абстрактом процессе модернизации, а попыткой осуществить тотальный переворот, бросить вызов всей наличной реальности во имя абсолютно нового. «Революция стремится противопоставить всей тотальности мира некую новую тотальность», — пишет философ, следовательно, скажем мы, революция вырастает из эсхатологической почвы.
Интересен здесь следующий момент: революция как цель и средство может возникать лишь тогда, когда исторический процесс мыслится линейным, т. е. апокалиптическим. Апокалиптика обеспечивает смысловое напряжение истории — как то, чем в конце концов опоясываются дела человека и чем, собственно, обрывается линия истории. И вместе с тем апокалиптика создает энергию для действия, которое способно подвести к глобальной развязке, открывающей Страшный суд.
Здесь, с точки зрения Таубеса, берет начало политическая перспектива. Если будущее несет обещание полной справедливости, значит, оказывается возможной и политика как форма разоблачения настоящего в качестве чего-то мнимого или как форма его объяснения через указание на суд грядущего. Апокалипсис радикально ставит под вопрос сложившийся статус кво и толкает историю вперед. Выходит, что подлинная политика — это движение к концу света.
Проблема в том, что, как только система под напором эсхатологических настроений выходит из равновесия, возникает обратная сила, стремящаяся эту энергию укротить, чтобы вернуть человека к повседневным делам. Так мы выходим к двум политическим полюсам, левому и правому, а также к идеологиям революции и контрреволюции.
 J. Rattery / Museum of Bad Art
J. Rattery / Museum of Bad Art
Революционный Израиль
Чтобы представить генеалогию идеи Апокалипсиса — от ее зарождения до преломления в современной левой теории, — Таубес охватил огромный репертуар текстов и исторических сюжетов за две с лишним тысячи лет человеческой истории. Все многообразие источников исследователь свел в общей апокалиптической тональности несовпадения искаженного мира и Бога и мечты о преодолении этой пропасти. Такой подход позволил немецкому философу возвести впечатляющую интеллектуальную конструкцию, сродни готическому собору, где в одном ряду стоят ветхозаветные пророки и алхимики Ренессанса, гностики и пиетисты, Иоахим Флорский и Карл Маркс, Ориген и Томас Мюнцер.
По мнению автора «Западной эсхатологии», духовная родина революционного апокалипсизма, который открыл дорогу для всех революционных потрясений новейшей истории, — библейский Израиль, в котором зародилась идея Апокалипсиса, а наследовали ее ранние христиане. Уникальность иудео-христианской культуры состоит в том, что именно она открыла представление об истории как о линии из пункта сотворения мира в пункт, где он кончается.
Для Древнего Востока проблема истоков и конечной цели истории не существовала, поскольку циклическое представление о времени блокирует возможность экспликации смыслов из прошлого, настоящего или будущего. «Культура, сложившаяся на Ниле и в Междуречье, как будто возникла раз и навсегда. Междуречье похоже на каменные стены, которые постоянно обновляются, но, по сути, никогда не меняются, а Египет как будто застыл в иероглифах», — пишет исследователь. Напротив, библейская концепция истории как линейного процесса ставит вопрос о смысле истории, что называется, ребром. По Таубесу, линейное представление об истории является продуктом эсхатологического склада ума, который каждое историческое событие наделяет смыслом: через него «можно увидеть порядок творения, и оно же указывает на порядок искупления».
Философ предлагает следующее объяснение контекста, в котором возникает идея Апокалипсиса. С одной стороны, иудейский народ так и не смог укорениться, врасти в землю. Периоды оседлости постоянно сменялись изгнанием, пленом или вынужденным странничеством в пустыне. В этих скитаниях у иудейского народа сформировался особый взгляд, не похожий на мировосприятие локализованных народов: им открылась драма противостояния безбожного мира и царства Божия. Характерно, что изгнанием в пустыню угрожали своему народу и ветхозаветные пророки, как будто это было единственным способом привести его в чувство.
Пустыня рождает особый вид израильской теократии, который долгое время отторгал царскую власть, подчиняя всю повседневную жизнь иудеев божественной регламентации. «В теократии выражается стремление человека освободиться от всех сугубо человеческих земных связей, оставаясь в союзе с одним лишь Богом. В противоборстве божественного и земного чувству иудейского раскрываются первые эсхатологические импульсы», — пишет Таубес.
С другой стороны, отсутствие сильной вертикали власти и крепкого хозяйства регулярно превращали Израиль в легкую добычу для могущественных народов. Периоды неволи, по мнению автора «Западной эсхатологии», усиливали апокалиптические настроения, которые хорошо запечатлены в ветхозаветных книгах, написанных в это время.
Этот пафос — странничество, чуждость миру и вместе с тем негодование по поводу его несправедливости — Таубес видит затем и в мировоззрении ранних христиан. Он пишет: «Гнет со стороны Антиоха Епифана рождает апокалиптику пророка Даниила, под гнетом римского владычества формируются апокалипсисы Варуха и четвертого Ездры, а Апокалипсис Иоанна — не что иное, как свидетельство мученика о мучениках».
Христианство в его первоначальном импульсе оказывается особым ответвлением иудаизма. Его стремительному распространению способствовали идеи новой общности, то есть Церкви, и потустороннего спасения, которое обещалось всем, невзирая на язык и социальное происхождение. Однако до достижения статуса государственной религии империи христианство находилось в том же напряженном эсхатологическом ожидании, что и иудеи во времена вавилонского пленения. Неслучайно Откровение Иоанна Богослова — книга, о которой в Церкви было множество споров, включать ее или нет в новозаветный канон, — больше напоминает еще один ветхозаветный текст. Евангельские мотивы в этом тексте отступают на задний план, все дышит пламенным негодованием в адрес римского императора, а конец мира превращается в событие чуть ли не завтрашнего дня.
 Rev. Albert Lee Wagner / American Visionary Art Museum
Rev. Albert Lee Wagner / American Visionary Art Museum
Укрощение и раскрепощение Апокалипсиса
«Сокровенная история христианства берет начало в неисполняющемся событии пришествия и содержит в себе попытки с христианской точки зрения объяснить это неисполнение». Учение о Церкви как о Царстве Божьем, по мнению Таубеса, как и вся последующая история институциализации христианства, — это попытка убедить христиан в том, что не стоит относиться к идее Апокалипсиса слишком буквально.
То, что от иудейской эсхатологии нужно дистанцироваться, чтобы успокоить первые христианские общины, понимал уже апостол Павел. Он подробно излагает идею о том, что в результате жертвы Христа наступила новая эра, а значит, ждать чего-то еще просто не имеет смысла. Эту мысль подхватывает Ориген, а после него — блаженный Августин, у которого эсхатология окончательно обращается внутрь человека. Земная жизнь становится поприщем воспитания и подготовки к загробной жизни, которая поставит христианина перед лицом настоящего, личного Апокалипсиса. Знание о буквальном конце мира доступно только Богу — человеку не по силам пытаться этим знанием овладеть.
Фактически, по мнению Таубеса, в отношении идеи Апокалипсиса в христианстве за несколько веков происходит настоящая контрреволюция, которая успешно завершилась осуждением хилиазма (то есть учения о скором наступлении тысячелетнего царства Христова) на Эфесском соборе в 431 году. Эсхатология становится безопасной, а ожидание Страшного суда замещается каноном, регламентирующим повседневную жизнь внутри Церкви, которая взяла курс на долгое историческое существование. «Проблема незавершенности настоящего и конфликта между миром и Богом затем решается в католицизме через тождество Духа и Разума (Царство Божье как Царство разума). Этой рационалистической традиции наследовало европейское Просвещение, для которого исправление мира достигалось через его приведение в соответствие с универсальными законами разума», — так историк Илья Будрайтскис описывает последствия и влияние этой контрреволюции, которая индивидуализировала Апокалипсис.
Другое дело, что революционный потенциал Апокалипсиса после Эфесского собора никуда не исчез. Иудейская эсхатология, преломленная через христианство, контрабандой проникла в западный мир и в дальнейшем прекрасно резонировала с событиями социальной жизни — например, придавая особую энергию крестьянским восстаниям.
В перепридуманном виде идея Апокалипсиса возвращается во внешний мир в учении итальянского монаха Иоахима Флорского (1132–1202). Тот, разделив историю на Эпоху Отца, которому соответствует Ветхий Завет, и Эпоху Сына, с которым начался Новый Завет, провозгласил, что в будущем наступит особая, третья Эпоха — Святого Духа. Тогда Церковь как земная структура уступит место Церкви духовной (ecclesia Spiritualis), в которой произойдет установление совершенно новой реальности. Таубес пишет, что учение Иоахима Флорского стало фундаментом для наступления Нового времени, которое окончательно порывает с прошлым порядком вещей.
«Иоахим словно заглядывает в Новое время, видя в нем тысячелетие революций, — считает автор „Западной эсхатологии“. — <…> Со времен Иоахима всякая революционная эсхатология уверена в том, что именно с нее начинается нечто окончательное (третье Царство, Царство Святого Духа, в котором исполнится все и вся), тогда как древность и Средневековье — это лишь предыстория».
Укрощенная идея Апокалипсиса раскрепощается и разжимает пружину событий и идей, которые открывают дорогу для Современности. Таубес проводит эту линию через немецкого «теолога революции» Томаса Мюнцера (1490–1525), который дал богословское обоснование насилию. Затем ведет ее через английских пуритан и сектантов пятой монархии, которые стремились покончить с законом, судом и собственностью, чтобы освободить народ от всего мирского к моменту второго пришествия Христа. А после — показывает, как эсхатологическая идея переживает секуляризацию в немецком идеализме, который среди прочего откликается на страшное землетрясение в Лиссабоне. Эта катастрофа «глубоко потрясла весь мир Просвещения» и поставила задачу «разработать новую схему исторического развития, в которой прогресс сочетался бы с регрессом». Так, по мнению философа, появляется новый вид эсхатологии — историческая диалектика идеализма.
В частности, Гегель, которого автор «Западной эсхатологии» видит наследником мысли Иоахима Флорского, разворачивал свое учение об истории как постоянной динамике от более низких к более высоким стадиям. Мир движется путем прогресса, который распадается на три этапа, в чем-то напоминающих этапы Иоахима, и завершается полной реализацией свободы человека. История, таким образом, вновь размыкается и начинает движение к своей предельной цели.
Главные противники Гегеля — Маркс и Кьеркегор — категорично отказывались видеть в истории нескончаемый поток разумного оптимизма. Для них, как и для иудео-христианской эсхатологии, социальный мир — угрюмое место беззакония и человеческого одиночества, который невозможно упорядочить одним лишь рациональным усилием. История, таким образом, вновь раскрывается как драма отчуждения, которую нужно искупить. Но если Кьеркегор, по мнению Таубеса, наотрез отказывался принять идею прогресса и считал, что человеку нужно вернуться к полному неприятию мира, которое было свойственно ранним христианам, то Маркс, напротив, видел в эсхатологии огромный политический потенциал. Он был убежден, что отчуждение человека будет искуплено в революции, необратимость которой для него была сродни необратимости Апокалипсиса для древних иудеев.
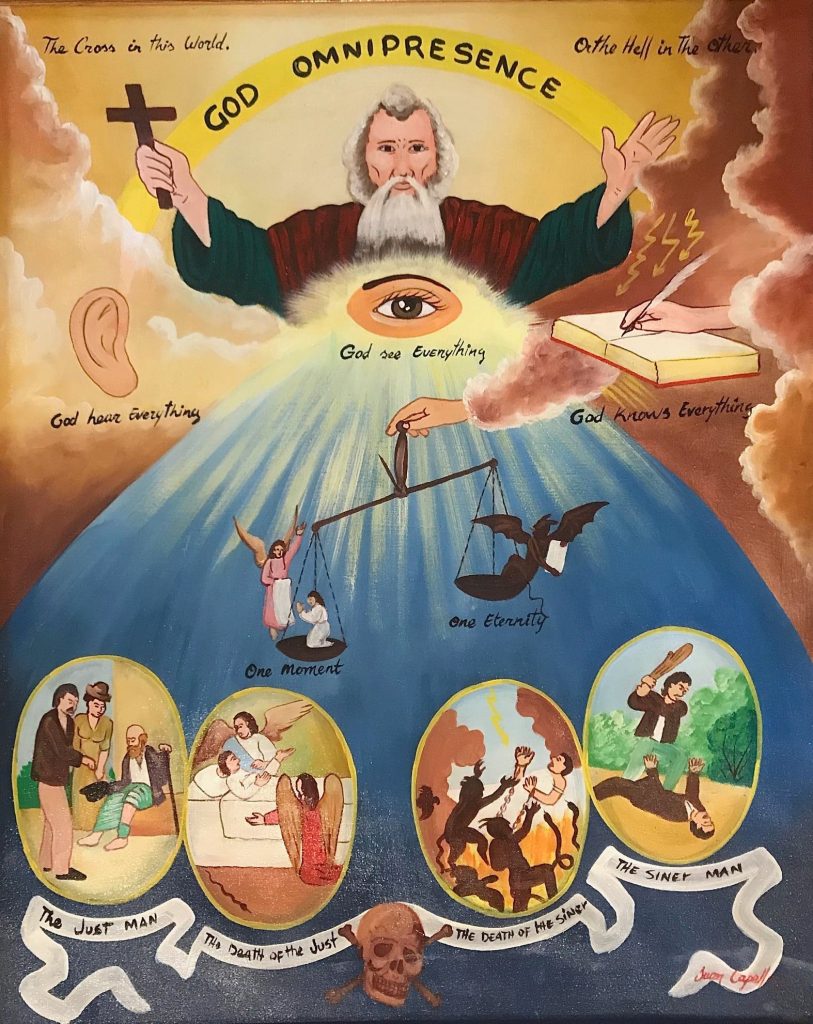 Juan Capellon / Museum of Bad Art
Juan Capellon / Museum of Bad Art
Зачем читать «Западную эсхатологию»
Нельзя сказать, что книга Таубеса содержит в себе какие-то невероятные исследовательские открытия. Почти всю фактуру, которую использует немецкий философ, он получил из вторых рук. Как показывает Джерри Мюллер в книге «Professor of Apocalypse: The Many Lives of Jacob Taubes», тематику библейской теократии Таубес, например, раскрывает на основе работ Мартина Бубера. Происхождение и содержание гностической мысли берет у Ганса Йонаса. А книга Карла Левита «От Гегеля до Ницше» стала для него отправной точкой в интерпретации мысли девятнадцатого века.
Ценность «Западной эсхатологии» не в пресловутой новизне, а в том, что Таубесу удалось синтезировать огромный комплекс исследований в единый рассказ о том, как глубоко проникли друг в друга религиозные и политические смыслы. Знать и видеть это взаимопроникновение в наши дни кажется важным уже как минимум потому, что слишком часто мы оказываемся под воздействием политической риторики — будь то лозунги о «правильной стороне истории», «особом пути», «решающем сражении между добром и злом», «конце истории». Те же механизмы, в сущности, все чаще вступают в действие, когда мы сталкиваемся с понятиями «террорист» или «экстремист», направленными на то, чтобы маркировать зло, угрожающее «чистоте» того или иного политического сообщества.
Вряд ли таким был замысел автора «Западной эсхатологии», но через призму актуальной повестки его диссертация указывает на важность сохранения сдерживающего, рационализирующего дискурса в политике. Потенциал политической эсхатологии, несмотря на его большое значение как катализатора судьбоносных изменений, нуждается в постоянном уравновешивании более скучным пониманием политики как репрезентации и медиации.
Почему это важно, хорошо заметно, например, на уровне ловушек, в которые часто попадает современная дипломатия, когда эсхатологические мотивы борьбы добра со злом, с упоением тиражируемые в том числе через СМИ, закрывают возможность для возвращения к рациональной коммуникации и становятся дополнительным фактором для расчеловечивания оппонента. Похожие механизмы работают и в пользу популистских движений, которые используют антиэлитизм как основной топос в своей едва ли не ветхозаветной проведи, чтобы подчинить себе электоральные машины.
Иными словами, если Таубесу революционный Апокалипсис, а не его индивидуализированный вариант, направленный на внутреннюю жизнь человека, казался абсолютным и непреходящим, чем автор «Западной эсхатологии», кстати, снискал уважение среди «поколения 1968 года», то это не значит, что политические практики исчерпываются революционным обновлением мира. В противном случае возникает риск, что идея Апокалипсиса, которая, как показывает философ, глубоко вшита в код современной политики, может принять пугающе буквальный вид. С этим динамитом стоит обращаться аккуратно и трепетно.