Антихрист с берегов Дона: о самой полной биографии Евгения Замятина
Рецензия на книгу Джули Куртис «Англичанин из Лебедяни»
Джули Куртис. Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. Перевод с английского Юлии Савиковской
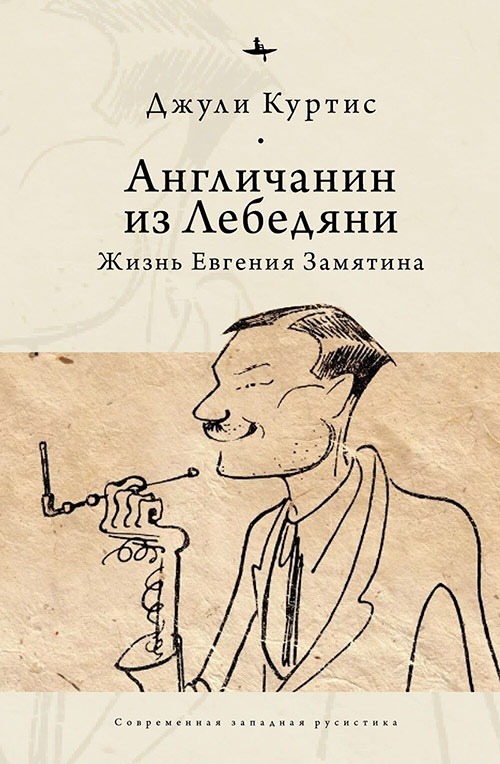 «Одна Россия граничит с Богом». Никогда мы не устанем повторять эти слова Рильке. Приятны они нам не из чувства вульгарного патриотизма, но потому что они истинны, а любая истина прекрасна сама по себе. И закроем на минуту глаза на то, что говорил Рильке не совсем это и уж точно не с тем подобострастием, которым принарядили его слова русские патриоты.
«Одна Россия граничит с Богом». Никогда мы не устанем повторять эти слова Рильке. Приятны они нам не из чувства вульгарного патриотизма, но потому что они истинны, а любая истина прекрасна сама по себе. И закроем на минуту глаза на то, что говорил Рильке не совсем это и уж точно не с тем подобострастием, которым принарядили его слова русские патриоты.
Допустим все же, что у Бога есть границы, и предположим, что граничит с ним одна Россия. На любой границе есть погранпост, есть он и на границе между Богом и Россией. И погранпост этот, несомненно, Черноземье. Именно здесь самое синее в мире небо над головой и самая черная, самая плодородная земля под ногами. Это даже не земля, а хайдеггеровско-гельдерлинское Abgrund — слово, обозначающее не только почву, но и бездну (бытия).
И на этой границе есть особенно приметная застава — Лебедянь. Лучи солнца здесь гудят в едином и нескончаемом благовесте, отражаясь и мерцая в плеске Дона, по берегам которого люди собираются в спасительной прохладе белых ив. Посреди всего этого великолепия стоит убогонький домишко с постаментом, а на нем — совдеповский бюст, изображающий строгого усача с галстуком-бабочкой на шее. Зрелище жалкое, но оттого и сильнее ощущение его богоизбранности. Это дом-музей Евгения Замятина — нескрываемо нищенского вида новострой 2009 года с резными окнами, облик которого восстановлен по весьма косвенным документам. Внутри все еще скуднее: зеленые стены как в школьной мастерской, такие же шторы, скудная экспозиция — старые фотографии Лебедяни, копии каких-то документов. В общем, обыкновенный провинциальный музей без посетителей, в котором разве что иногда проводят вечера самодеятельности.
Но позволим себе всего на полтора абзаца отвлечься от созерцания искусственной достопримечательности провинциального городка и расскажем не слишком интересную, но все же поучительную историю, случившуюся однажды в метрополии.
Когда Том Стоппард гостил в Москве, его любезно пригласили посмотреть на старый желтый дом на Тверском бульваре, где родился герой его «Берега утопии» Александр Иванович Герцен, а теперь располагается Литературный институт. Стоппард не выказал ни малейшего интереса, отказав в довольно резкой форме. Откуда нам это известно? Об этом нам с искренним непониманием и досадой рассказал ныне покойный американист Станислав Бемович Джимбинов, который прекрасно разбирался в сложнейших вещах, но каким-то образом не мог понять самого обыкновенного человеческого равнодушия.
Примерно тогда же, когда британский драматург манкировал приглашением в Дом Герцена, его соотечественница, профессор Оксфорда Джули Куртис, стала одним из первых посетителей музея Замятина, специально отправившись в эту глухомань, чтобы посмотреть на эрзац писательского дома. Надеемся, теперь читатель понял, зачем нам понадобилось столь долгое лирическое вступление, но на всякий случай поясним. Джули Куртис — исследовательница русской литературы, прежде всего она специалист по Михаилу Булгакову и Евгению Замятину. И уже сам факт ее поездки из Оксфорда в Лебедянь, куда и из Москвы мало кому захочется добираться, да еще и на не самое обязательное мероприятие, говорит о том, что она, вероятно, главный в мире фанат Евгения Ивановича.
В 2013 году в серии Ars Rossica издательства Academic Studies Press вышла ее книга «Англичанин из Лебедяни», которая теперь, аккурат к столетию романа «Мы», появилась и на русском языке. Признаться, мы бы вряд ли вспомнили о том, что 2020 год стал для замятинского романа юбилейным. Единственным заметным напоминанием об этом оказался невыпуск (из-за коронавируса, не из-за политики) в прокат фильма Гамлета Дульяна «Мы». Судя по трейлеру, молодой режиссер снял на минкультовские деньги морально устаревший, плоский, как лужа, глянцевый футуристический триллер из тех, на которые зрителя уже лет десять не затащить хоть бы и под страхом вбивания гвоздя в голову. Впрочем, эта экранизация скорее тема для статьи в журнале «Вопросы совести», к книгам она имеет опосредованное отношение.
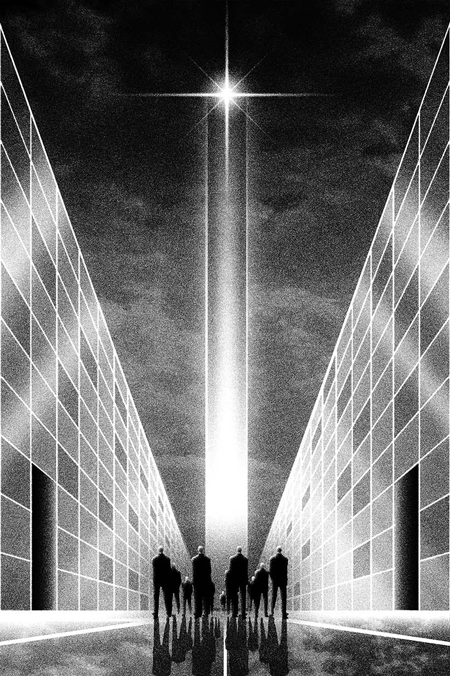 Кит Расселл. Иллюстрации к «Мы» для издательства The Folio Society. 2018 год
Кит Расселл. Иллюстрации к «Мы» для издательства The Folio Society. 2018 год
Но ведь дело в том, что никаких серьезных разговоров о Замятине и его месте в русской литературе, в общем-то, не ведется. Это удивительно, учитывая любовь нашего народа к красивым датам и очевидным культурно-историческим параллелям. Более того, «Мы» — это еще и один из главных экспортных товаров русской литературы ХХ века, сам Оруэлл даже не думал отрицать, что роман Замятина сильно повлиял на всенародно любимую книгу «1984». Разгадка этих странностей, видимо, безнадежно проста: Евгений Иванович попросту выпал из нашего культурного массива. А выпал он потому, что кажущийся предельно ясным и понятным роман «Мы» не совсем о том, о чем мы привыкли думать. Тот же трейлер экранизации дает понять: перед нами очередная безделица, основанная на трюизме о том, что счастье без свободы невозможно, а тотальная власть — зло. Мог ли вложить такой нехитрый замысел в свою книгу один из образованнейших людей России? Нам кажется — нет, не был на такое способен один из образованнейших людей России. Значит, проблема в том, как мы воспринимаем «Мы».
Сейчас, когда мы знаем, к чему способна привести абсолютная власть в эпоху ее технической воспроизводимости, нетрудно прочитать роман Замятина как предсказание грядущих тоталитарных режимов — прежде всего сталинского и фашистского/нацистского. Но справедливо ли задним числом наделять автора, пусть и столь талантливого, как Замятин, профетическими способностями лишь потому, что ему удалось изобразить то, чего в природе тогда еще не существовало (или уже существовало, но едва проклевывалось)? Мы думаем, что нет, несправедливо.
Быть может, серьезные дискуссии вокруг замятинского наследия не ведутся как раз из-за того, что в нашем обществе по поводу этой книги сложился консенсус: роман классический, в нем все понятно, обсуждать нечего. Как правило, такое единодушное безразличие возникает во многом из-за непонимания и неготовности говорить о на самом деле малопонятных предметах, ошибочно занесенных в азбучные истины. Надеемся, это исправит книга, с которой мы хотим познакомить наших читателей.
«Англичанин из Лебедяни» — толстая и скрупулезная летопись жизни Евгения Замятина, удивляющая в первую очередь тем, насколько строго подходит автор к своему труду. Метод Джули Куртис мы бы определили как позитивистский подход к составлению биографии. На протяжении 450 страниц автор, кажется, ни разу не позволяет себе трактовать тексты писателя, которому посвящена книга. Как исследователь Куртис отрицает возможность догадок или собственных трактовок и признает лишь ценность документа: письма, записки, телеграммы, газетной заметки. Из этих микрочастиц она дотошно выстраивает историю одной жизни — от рождения в суровой патриархальной семье до кончины в разгульном предвоенном Париже. Можно только представить, содрогаясь, масштабы работы, проделанной Куртис с архивами Замятина и вообще едва ли не всех мало-мальски заметных людей, с которыми он общался. Из этих микроскопических кадров и склеивается целостная лента, довольно условно скрепленная авторской речью. Такой метод может показаться чрезмерно сухим и наверняка многих оттолкнет, но зато перед нами редкий в наши дни пример по-настоящему добросовестной научной работы, проделанной для массового читателя.
И, самое главное, такой позитивистский метод, лишенный всяких литературоведческих вольностей, неожиданно вручает нам ключ к замятинскому тексту (не только к роману «Мы»), да еще и предварительно счищает с него всю идеологическую ржавчину.
Благодаря этому Замятин предстает перед нами во всей своей полноте, объеме, а не в плоскостности, которой его по злой иронии наделили читатели и время. С одной стороны, мы видим несчастного, неуверенного в себе человека, склонного к тяжелым болезням и нервным срывам, благодатно подпитывающим друг друга. С другой стороны, Замятин раскрывается как брутальный нонконформист: вырос в ультраконсервативной семье священника, до революции имел более чем серьезные проблемы с законом из-за связей с большевиками, после Октября осудил террор как метод борьбы и призвал к немедленному прекращению Гражданской войны, написал фельетон «Великий Ассенизатор», публиковался в реакционной эмигрантской печати, но даже после бегства из СССР сохранял советский паспорт до конца своих дней.
Политический нонконформизм — лишь одна из сюжетных линий «Англичанина из Лебедяни». Интимная сторона жизни Замятина для Джули Куртис как исследователя оказывается не менее значимой, чем публичная. Главная героиня этой части биографии Замятина — его l’amour d’une vie Людмила Николаевна (Усова), болезненные и предельно страстные отношения с которой начались у Евгения Ивановича в юности и завершились только после его смерти:
«В [...] письмах он с нежностью пишет о ее губах, маленьких зубках, интимных запахах, менструальной влаге, нежной остроте ее грудей, ощущаемой через блузку, милых ему изгибах ее запястий со светлыми волосками на них и о его желании обнять ее ноги, положить голову ей на колени или поцеловать ее грудь через платье. Все эти образы позже появятся в его прозе.
В конце июня 1911 года он размышлял о том, какую роль в их отношениях играет власть одного над другим [...]:
Моя маленькая госпожа. Как приятно мысленно подчиняться тебе и целовать твои руки, ставши на колени. И как я за это же не люблю тебя и себя — за то, что моя любовь к тебе и твоя ко мне — заставляют меня чему-то, кому-то подчиняться, — пусть этот кто-то даже и ты; за то, что я в чем-то стесняю себя, в чем-то обуздываю себя — пусть это делается даже ради великой чистоты и полноты наших ласк, твоих ласк».
 Евгений Замятин, Виктор Ключарев и Людмила Николаевна Замятина в ресторане в гостинице «Европейская». Ленинград, 1931 год
Евгений Замятин, Виктор Ключарев и Людмила Николаевна Замятина в ресторане в гостинице «Европейская». Ленинград, 1931 год
Подобно тому, как интимные письма Джеймса Джойса к Норе позволяют глубже проникнуть в причудливый эротизм «Улисса», так и письма Замятина к Людмиле делают яснее темную, зачастую деструктивную, сексуальность многих замятинских текстов — от раннего рассказа «Девушка» до зрелой повести «Уездное» или того же романа «Мы». Вполне в духе времени Куртис обращается и другим аспектам замятинской телесности, подробно рассказывая о том, как писатель большую часть жизни мучился хроническим колитом — пренеприятнейший болезнью кишечника, выражающейся в постоянных позывах к дефекации, сильнейших болях, язвах, кровавому поносу.
Читатель может резонно спросить: к чему нам такие подробности из частной жизни человека, интересного нам прежде всего своими текстами? На этот вопрос у нас однозначного ответа нет. Мы лишь смеем предположить, что подобный отчасти физиологический подход позволяет реактуализировать многие стороны не самого простого творческого пути русского писателя и хотя бы потому имеет полное право на существование.
Впрочем, отвернемся от Замятина-человека и обратимся все же к Замятину-писателю и тому, как он представлен на страницах «Англичанина из Лебедяни». Последовательно отказывая себе в праве на трактовку, Куртис приводит многочисленные свидетельства современников Замятина, ставших первыми читателями впоследствии запрещенного цензурой романа. Среди наиболее интересных мы бы хотели отметить неожиданно нелицеприятную, во многом несправедливую и даже жестокую оценку Корнея Чуковского:
«Ой, как скучно, и претенциозно, и ничтожно то, что читал Замятин. Ни одного живого места, даже нечаянно. <...> Старательно и непременно чтобы был анархизм, хвалит дикое состояние свободы, отрицает всякую ферулу, норму, всякий порядок — а сам с ног до головы мещанин. <...> Дурного тона импрессионизм. Тире, тире, тире...»
Или отзыв акмеиста Всеволода Рождественского: «То, что Вы дали мне, — прекрасно. Вам я обязан одной бессонной ночью и выбитым из колеи днем. Об этом не жалею, конечно, а очень и очень прошу Вас оставить мне рукопись еще на 3–4 дня. Дома читаем ее вслух (шире это не уйдет никуда). Мне кажется, меня давно так не волновала книга наших лет».
 Доходило и до курьезного. Например, Куртис рассказывает, как не состоялся перевод «Мы» на немецкий: «Вольфганг Грегер, первый немецкий переводчик, изучивший роман, пришел к выводу, что текст талантлив, но в нем „слишком мало русского” на немецкий вкус».
Доходило и до курьезного. Например, Куртис рассказывает, как не состоялся перевод «Мы» на немецкий: «Вольфганг Грегер, первый немецкий переводчик, изучивший роман, пришел к выводу, что текст талантлив, но в нем „слишком мало русского” на немецкий вкус».
Сам же Замятин много позже сетовал: «Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман — сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству: от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства. Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, не без основания увидели в нем критику фордизма».
В любом случае, из всего этого становится очевидно: интерес к роману «Мы» следует связывать не с тем, что Замятин открывает новый жанр, а с тем, что он умудряется написать книгу, совершенно непонятную без осмысления контекста, в котором она была создана.
Как видим, положение Замятина в культурной ситуации того времени было скорее мерцающим, нежели определенным. Даже его вечный покровитель Горький, получив однажды из Парижа письмо от Ходасевича со словами «очень плох Замятин, вымученный писатель», неожиданно согласился с поэтом-белоэмигрантом.
Эта мерцающая репутация воплотилась и непосредственно в самой жизни писателя, закономерно арестованного осенью 1922 года. Удивительным лично для нас оказался приведенный Куртис факт: тогда об освобождении писателя ходатайствовал (впрочем, безуспешно) не кто-нибудь, а товарищ Ягода. Вообще отношение советского официоза к Замятину — тема таинственная и не до конца раскрытая даже в этом дотошном исследовании. Куртис сообщает читателю, что и Горький, и Сталин закрывали глаза на откровенно неблагонадежного автора из уважения к нему как к мировому специалисту в инженерном деле. Более того, и после эмиграции Замятин был частым и желанным гостем в посольстве СССР в Париже.
Эта вечная двойственность Евгения Ивановича неспроста вынесена и в заглавие книги — «Англичанин из Лебедяни». На этом оксюмороне держится нерв всего исследования: в Англии Замятин упрямо отказывался переводить часы на летнее время, предпочитая жить примерно по одним часам с Москвой, в России же основой его имиджа стали приобретенные на островах манеры и повадки.
Все это заставляет нас вспомнить знаменитое начало «Автобиографии» Замятина:
«Конские ярмарки, цыгане, шулера, помещики — в поддевках, в „дворянских” с красным околышем фуражках. „Царские дни”, на молебне в соборе впереди всех — исправник, за ним — чиновники, учителя гимназии в мундирах, со шпагами, купцы с медалями на шеях. Масленичные катания по Большой улице — в пестрых „ковровых”, выехавших из 17-го века санях. Летние крестные ходы — с запахом полыни, с тучами пыли, с потными богомольцами, на карачках пролезающими под иконой Казанской. Бродячие монахи, чернички, юродивый Вася-Антихрист, изрекающий божественное и матерное вперемежку...»
Не проступает ли в этих строках за Васей-Антихристом сам Замятин? Не стремится ли он стать такой же, прости, Господи, язык мой грешный, амбивалентной фигурой, чья амбивалентность дарует святость, а с ней свободу — от общества, власти, репрессий? На такие размышления по крайней мере нас натолкнула пусть и чрезмерно сухая и точная, но все равно лучшая из имеющихся на данный момент биографий Замятина, сочиненная Джули Куртис из Оксфорда.
Обязательно подумайте об этом, когда будет время.
Ялта, 29–30 июня 2020 г.