Абстрактность неабстрактного гуманизма
О книге Мих. Лифшица «Что такое классика?»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мих. Лифшиц. Что такое классика? СПб.: Умозрение, 2023. Содержание. Фрагмент
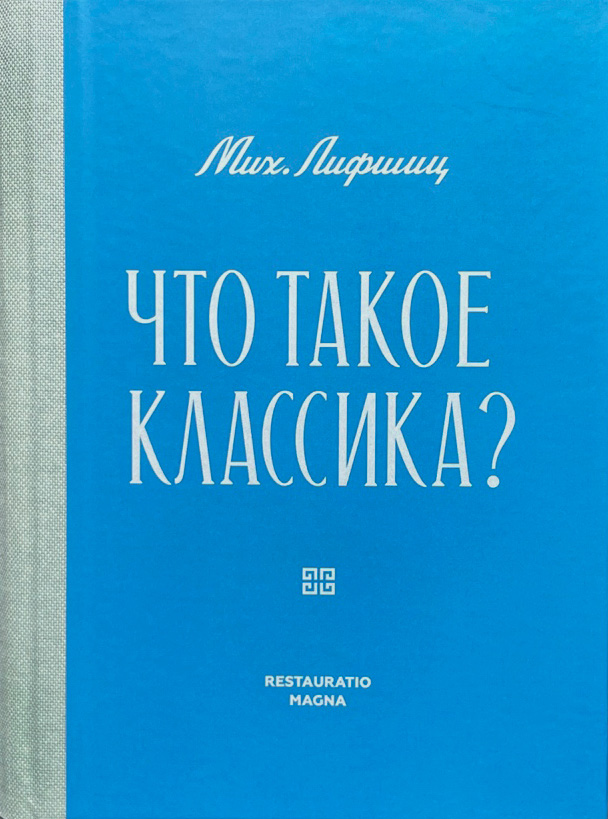 Михаил Лифшиц — одна из самых сложных и противоречивых фигур в советской интеллектуальной истории. Звездным часом для него стали 1930-е годы, когда он разрабатывал марксистско-ленинскую эстетику, систематизируя разрозненные высказывания Маркса, Энгельса и Ленина о литературе и искусстве. В том же десятилетии он вместе с коллегами по журналу «Литературный критик» (в их числе был Георг Лукач, проживавший тогда в Москве) принял активное участие в кампаниях против «вульгарного социологизма», «формализма» и «натурализма». Лифшица нельзя назвать убежденным сторонником Сталина, но идеи философа, говорившего о важности классического наследия в социалистическом государстве, стали актуальными в условиях сталинского «реставрационного» поворота середины 1930-х годов. Впрочем, в скором времени идеологической климат вновь переменился, и в 1940 году «Литературный критик» был закрыт постановлением ЦК — к счастью, без особых последствий для Лифшица и других сотрудников издания.
Михаил Лифшиц — одна из самых сложных и противоречивых фигур в советской интеллектуальной истории. Звездным часом для него стали 1930-е годы, когда он разрабатывал марксистско-ленинскую эстетику, систематизируя разрозненные высказывания Маркса, Энгельса и Ленина о литературе и искусстве. В том же десятилетии он вместе с коллегами по журналу «Литературный критик» (в их числе был Георг Лукач, проживавший тогда в Москве) принял активное участие в кампаниях против «вульгарного социологизма», «формализма» и «натурализма». Лифшица нельзя назвать убежденным сторонником Сталина, но идеи философа, говорившего о важности классического наследия в социалистическом государстве, стали актуальными в условиях сталинского «реставрационного» поворота середины 1930-х годов. Впрочем, в скором времени идеологической климат вновь переменился, и в 1940 году «Литературный критик» был закрыт постановлением ЦК — к счастью, без особых последствий для Лифшица и других сотрудников издания.
После войны Лифшиц обличал лицемерие советской интеллигенции, работал в «Новом мире» у Твардовского, писал труды по эстетике и философии, многие из которых были опубликованы только после смерти автора. Наиболее громкими работами этого периода стали памфлеты «Почему я не модернист?» (1964) и книга «Кризис безобразия» (1968), написанная совместно с Лидией Рейнгардт. Эти тексты продолжали начатую Лифшицем еще в 1920–1930-е годы полемику против модернистского искусства. Их публикация совпала с окончанием хрущевской оттепели и закрепила за автором репутацию консерватора и даже сталиниста. Лифшиц вполне комфортно существовал в стране развитого социализма и продуктивно работал до самой своей смерти в 1983 году, периодически эпатируя ученую советскую публику. Но, как вспоминал Валерий Подорога, в начале 1970-х годов учившийся в аспирантуре Института философии АН СССР, его ровесники не проявляли особого интереса к Лифшицу: «...мое поколение не считало ни этот язык, ни эти идеи, ни весь этот старый „марксизм-ленинизм“ чем-то важным и необходимым для понимания современного мира».
Лифшиц оставил после себя огромное наследие, значительная часть которого долго не публиковалась. Ничего удивительного тут нет: после распада СССР казалось, что марксизм — и в особенности его советская версия — окончательно дискредитировал себя, а работы Лифшица и других философов-ортодоксов могут представлять интерес только для историков. Однако со временем стараниями наследников Лифшица и в особенности его ученика Виктора Арсланова постепенно начали издаваться многочисленные архивные заметки, выписки, письма и лекции.
На закате жизни Лифшиц стал думать о работе, в систематизированном виде излагающей его философские взгляды. В ноябре 1970 года он писал Георгу Лукачу, незадолго до того закончившему книгу «К онтологии общественного бытия»: «Мою „Онтологию“, если можно так выразиться, я еще не начинал. Может быть, в ней будет что-нибудь интересное, если это когда-нибудь осуществится вообще, если это не мираж моего воображения. Кроме скелетов многочисленных лекций, у меня накопилось много записанного, но эскизного материала. Возможно, что мне придется оставить это в афористической форме. Мне чем-то неприятен этот путь, ибо на роль марксистского Ницше или Хайдеггера я претендовать не хочу. Боюсь только, что на строгую систематику уже не осталось времени».
Этот замысел так и остался неосуществленным, но в архиве философа сохранилось множество папок с подготовительными материалами, которые частично вошли в сборник «Что такое классика?». Как отмечает в предисловии Виктор Арсланов, при подготовке издания составители сохранили название и содержание соответствующих папок, позволив себе «только некоторые сокращения, не изменяя порядка расположения записок и заметок». Сборник впервые увидел свет в 2004 году; настоящее переиздание дополнено двумя лекциями (первая посвящена проблематике добра и зла, вторая — пушкинской трагедии «Борис Годунов»), а также некоторыми другими, ранее не публиковавшимися материалами.
Основную часть сборника составляют лаконичные записи, явно не предназначавшиеся для публикации и представляющие собой, мягко говоря, большой вызов для неподготовленной аудитории. Лифшиц намечает темы будущего исследования и формулирует основные тезисы, но лишь в редких случаях его заметки переходят в развернутые рассуждения. Сборник разделен на главы, соответствующие папкам из архива философа. За исключением первой, все они предваряются краткими и довольно бесполезными предисловиями составителей: в них просто перечисляются основные темы глав без какой-либо попытки контекстуализировать размышления Лифшица и прояснить их для читателей.
Комментарий, которым составители снабдили публикуемые материалы, тоже часто оставляет желать лучшего. Например, в первой главе помещены критические замечания Лифшица по поводу книги литературоведа Дмитрия Благого о Пушкине. Составители не сообщают, о какой именно работе идет речь (по всей видимости, это «Социология творчества Пушкина» 1931 года издания). Что еще более важно, они не поясняют, в каких обстоятельствах проходила эта заочная полемика. В середине 1930-х годов, когда СССР готовился отмечать столетие со дня смерти Пушкина, разгорелась дискуссия о значении поэта для советской культуры и «подлинно марксистском» понимании его творчества. Лифшиц выступал против упрощенного подхода, в рамках которого пушкинские произведения рассматривались как непосредственное выражение классовых интересов одной социальной группы. Подобные детали крайне важны для понимания текстов, относящихся к другим историческим эпохам, особенно если они остались незаконченными или дошли до нас в неполном виде.
Центральное место в заметках Лифшица занимают размышления о философии истории. Автор критикует линейное понимание прогресса, указывая на противоречивый характер исторического развития. У каждой новой стадии (Лифшиц, разумеется, придерживался марксистской стадиальной модели) есть свои положительные и отрицательные стороны. Например, капитализм, разрушая сословную систему и освобождая людей от гнета феодальных порядков, одновременно приносит с собой новую форму закрепощения, основанную на товарно-денежных отношениях. Конечно, акцент на такого рода противоречиях — общее место в марксистских трактовках истории, но Лифшиц добавляет в эту схему новый элемент. Он отмечает, что реакцией на «ограниченность и грехопадение прогресса» становится «оживление подавленного старого, гальванизация ушедших порядков, приобретающих значение протеста». Отсюда идея Лифшица о «великих консерваторах человечества», к которым он относил среди прочих Джамбаттисту Вико, Шекспира, Гегеля, Вальтера Скотта и Бальзака. По мысли Лифшица, все перечисленные авторы так или иначе осознавали однобокость прогресса и стремились уравновесить его, апеллируя к образу прошлого, зачастую идеализированного.
«Ни одна человеческая сила, будучи экстраполирована, то есть доведена путем абстракции до одностороннего развития, не есть абсолютная полнота. Всякое развитие связано с завоеваниями, всякое развитие связано с утратами, истинный прогресс измеряется тем, насколько способен человек преодолеть отрицательные последствия собственных завоеваний», — пишет Лифшиц. Залог гармоничного развития заключается в достижении того, что он обозначает немецким термином die wahre Mitte, то есть «истинной середины». Эта концепция связана с идеей «борьбы на два фронта», которую философ выдвигает, размышляя об идеологических дискуссиях 1930-х годов. Как пишет Лифшиц, в тот период он и его единомышленники противостояли, с одной стороны, тем советским ученым и критикам, которые придерживались линейного понимания исторического процесса и считали социалистическое искусство безусловно более «прогрессивным», чем искусство прошлого, и, с другой стороны, тем «реакционным» авторам, которые вовсе отвергали идею прогресса в искусстве, считая все эпохи в этом отношении равнозначными.
После того как социалистический реализм был провозглашен основным методом советской литературы, исследователи начали выстраивать новый историко-литературный нарратив. Предполагалось, что соцреализм должен опираться на классические образцы, одновременно знаменуя собой высшую ступень развития реалистического искусства. Однако вставал вопрос: как произведения Бальзака или, скажем, Толстого могут служить образцами для советской литературы и одновременно быть всего лишь одним из этапов на пути к соцреализму? По Лифшицу, идея прогресса не отменяет определенной цикличности истории. В статье о Вико, написанной в 1936 году, он объясняет это следующим образом: «Даже те остатки прошлого, которые лежат на поверхности, часто оказываются незамеченными и непонятыми. Но вот наступает время, и обнажаются исторические напластования самых отдаленных эпох. Прошлое открывается для настоящего, когда само настоящее достигло определенного уровня развития. Род ирокезов и марка германских народов были открыты, когда созрели условия для социалистического общественного движения XIX века. Поэзия готики стала очевидной, когда буржуазная цивилизация вызвала первые разочарования, еще недоступные рациональным понятиям общественной науки. <...> В этом смысле революционно-критическая практика рабочего класса дает современному человечеству ключ ко всей его прежней истории или, вернее, предыстории». Поэтому при социализме вполне возможен возврат к классическим античным формам или, скажем, к реалистическому роману XIX века. «Парадокс в том, что цикл в собственном смысле слова, de facto, есть именно не совершенный цикл, а всеобще-циклическое развитие не циклично, а поступательно», — пишет Лифшиц в одной из архивных заметок.
 Мих. Лифшиц. Фото: Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»
Мих. Лифшиц. Фото: Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»
Вернемся к идее «борьбы на два фронта», которую Лифшиц распространяет не только на историю искусства, но и на исторический процесс в целом. В лекции о пушкинском «Борисе Годунове», прочитанной в театре Мейерхольда в 1936 году, он доказывает, что в пьесе изображен конфликт между боярством, которое представляет «древний... порядок дезорганизации и хаоса, древнего бесправия и кулачного боя», и царем Борисом, который олицетворяет собой «новый цивилизованный порядок». Однако их объединяет безразличие к положению народа: если боярство «изменяет своей родине и приводит поляков», то для царя народ — не более чем враждебная чернь, которую необходимо «держать в узде». Согласно модели Лифшица, две эти силы представляют собой крайние противоположности, в конечном счете обнаруживающие полную «неправоту... свою односторонность». Но в пьесе присутствует и третья сторона — сам народ, который на протяжении всего произведения пребывает в состоянии «придавленности», а в финале своим безмолвием выносит обеим сторонам приговор.
(Лифшиц неслучайно уделяет такое внимание роли «народа» в пьесе Пушкина. В середине 1930-х годов «народность» стала ключевой категорией советской культуры, заменив в этом качестве «классовость». Новое понятие заняло центральное место в доктрине соцреализма — искусства, которое должно быть понятным и доступным широким массам.)
В 1930-е годы политические взгляды Пушкина стали предметом спора среди советских литературоведов. Как известно, поэт некоторое время был близок к кругу декабристов, но впоследствии отошел от него и даже занял место придворного историографа при Николае I, поэтому попытка установить прямую взаимосвязь между «прогрессивным» характером пушкинского творчества и взглядами поэта наталкивалась на труднопреодолимое препятствие. Лифшиц, работавший в это время над монографией о Пушкине (она так и не была завершена, но до нас дошли отдельные тексты, позволяющие судить об общем замысле), предложил изящное решение. По его мысли, поэт осознавал, что и декабристы, и самодержавие представляют собой две крайности, каждая из которых в равной степени далека от интересов народа. В такой ситуации Пушкин предпочел дистанцироваться от политической жизни, выбрав «гуманную резиньяцию», как формулирует Лифшиц в письме конца 1930-х годов. То, что на первый взгляд может показаться проявлением безразличия к судьбам народа, в действительности оказывается единственной по-настоящему разумной позицией, возможной в то время. Более того, Пушкин в изображении Лифшица оказывается мыслителем, тонко понимающим противоречивый характер исторического процесса. «И самодержавие имеет относительную прогрессивность, и дворянство со своей защитой привилегированного сословия, каждая из этих сторон имеет в себе относительную прогрессивность, но каждая в конце концов дискредитируется, каждая из них враждебна народу и подлежит тому приговору, который в конце концов изрекается народом», — говорит он в лекции о «Борисе Годунове». По Лифшицу, центральный конфликт пьесы во многом отражает политические и социальные противоречия николаевской России, которые Пушкин пытался осмыслить на историческом материале.
Мысль о необходимости разграничения противоположностей, образующих диалектическое единство, важна для Лифшица. Мы уже увидели это на примере Пушкина, чей консерватизм, по мнению философа, принципиальным образом отличается от консерватизма николаевского режима. В размышлениях более позднего периода Лифшиц также неоднократно возвращается к этой мысли. В лекции «О добре и зле», прочитанной, как предполагают составители, в 1964 году, он затрагивает проблему культа личности в СССР и его последствий. «Первое и самое главное, — считает Лифшиц, — устоять под натиском буржуазных идей, получивших новую пищу, взбудораженных, как осиновый рой, нашими внутренними делами, страшными зигзагами трагедии, связанной с именем Сталина. Нужно убедиться в том, что революционная теория не обманула народ (конечно, мы берем ее в большом историческом смысле, теории из „Краткого курса“ защищать нельзя), но все возможные, самые драгоценные блага и улучшения все в ней, а бессильными нравственными фразами по-прежнему вымощена дорога в ад». Указания на то, что жертвы, которые повлекла за собой революция и последующие действия новых властей, не могут быть оправданы высокой целью построения социализма, Лифшиц характеризует как «абстрактный гуманизм». Соответственно, быть «неабстрактным гуманистом» — значит принимать эти жертвы как неизбежную плату за революционное преобразование общества. Как отмечает сам философ, в этом отношении он не предлагает ничего оригинального по сравнению с официальным советским дискурсом. Но Лифшиц не был бы Лифшицем, если бы не усложнил эту дихотомию, проведя различие между абстрактным неабстрактным гуманизмом и неабстрактным неабстрактным гуманизмом. Лифшиц иллюстрирует свою мысль следующим примером: марксист, который отказывается подавать нищему, поскольку понимает, что «филантропической гомеопатией социальных несчастий не устранишь», делает неправильный вывод из правильной посылки и остается в рамках абстрактного неабстрактного гуманизма. Да, благотворительность часто выступает в качестве индульгенции, позволяя подающему милостыню закрывать глаза на истинные причины возникновения нищеты, но это не означает, что тот или иной конкретный нищий не заслуживает помощи.
Говоря о репрессиях, Лифшиц вспоминает фразу «если враг не сдается, то его уничтожают», принадлежащую Максиму Горькому (так называлась статья писателя, опубликованная в «Правде» в 1930 году — речь в ней шла о необходимости уничтожения кулачества как класса). Саму формулу Лифшиц считает верной, но замечает: «...кто постарше, тот помнит, сколько разных преступлений культа личности прикрывалось этой формулой... эта диалектика у нас часто была в ходу. Я повторяю, что она не ложна совершенно, нет, она только абстрактно правильна, а из всего абстрактного можно сделать очень скверные выводы». Следовательно, необходимо научиться различать абстрактную и неабстрактную постановку вопроса. Однако Лифшиц не объясняет, в чем именно заключается принципиальная разница между одним и другим. Вместо этого он лишь цитирует высказывание Ленина о том, что коммунисты не должны замыкаться в «сектантскую группку» и противопоставлять себя широким массам, воспринимая их как классовых врагов. Такая аргументация кажется неубедительной хотя бы потому, что репрессий, как известно, не избежали ни партийцы, ни беспартийные. В этом и проявилась порочная логика самовоспроизводящегося политического террора, легко переходящего с «чужих» на «своих»; более того, в параноидальном режиме «осажденной крепости» обе эти категории размываются. Вопрос, следовательно, заключается в том, существует ли граница между допустимым и недопустимым революционным насилием, и если да, то где она проходит. Однако Лифшиц в своей лекции лишь подбирается к этому вопросу, не давая на него ответа.
Если держать в уме биографию Лифшица, то нетрудно понять, почему при обсуждении темы репрессий он говорит о необходимости различения между схожими, но не идентичными явлениями. Как я уже отмечал, в 1930-е годы интересы группы «Литературного критика» совпали с генеральной линией партии в вопросах искусства. Более того, волна террора, накрывшая литературную и художественную среду, затронула главным образом их оппонентов. В архиве Лифшица есть запись, сделанная, по-видимому, в 1960-е годы: «Андрей Платонов, сидя за стопкой водки в нашей доброй компании и узнав, что арестован Динамов [Сергей Динамов — советский литературовед, редактор журнала „Интернациональная литература“, расстрелян в 1939 году. — К. М.] или другой какой-то сатрап, окруженный теперь венцом мученичества, сказал: „Братцы, а не в нашу ли эту пользу?“». Понятно, что ни Лифшица, ни Платонова, ни других участников их круга нельзя обвинять в причастности к репрессиям. Однако такое неприятное совпадение интересов, вероятно, смущало Лифшица, стремившегося продемонстрировать, что он сам и его единомышленники в 1930-е годы вовсе не подыгрывали Сталину, а преследовали собственные цели.
К философскому наследию Лифшица можно подходить по-разному. Одна стратегия изложена Виктором Арслановым в предисловии к сборнику: по его мнению, работы Лифшица содержат ответы на многие вопросы современности, а их сравнительная непопулярность объясняется клеветой, «сопровождавшей Михаила Александровича на протяжении его жизни», и тем, что «нам еще предстоит „дорастать“ до тех проблем, которые занимали и волновали Лифшица». О возможной актуализации Лифшица и советского марксизма говорит и философ Алексей Пензин, избегая, правда, какой-либо апологетики: «Советская мысль, исторически подвергшаяся двойному исключению как со стороны внутренней партийной догмы, так и со стороны „западного марксизма“, только сейчас, после освобождения от этого двойного „захвата“, имеет шанс стать действительно осмысленной и радикальной». Другая стратегия — рассматривать работы Лифшица исключительно как источник по советской интеллектуальной истории. Какую бы стратегию мы ни выбрали (а обе они имеют свои ограничения), нам вряд ли удастся многое вынести из текстов Лифшица без понимания того контекста, в котором он жил и работал.