«Задача гуманиста — не в осмыслении зла»
Интервью с переводчиком Дмитрием Колчигиным. Часть 1
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— «Историческая топология» — название условное, поскольку в самой книге нет работы с таким заглавием. Что, собственно, означает это словосочетание, вынесенное на обложку?
— Историческая топология — это морфологическое явление, положенное у Ауэрбаха в самую основу научного дискурса. Работы с таким названием действительно нет (ни в нашем сборнике, ни вообще), но оборот как таковой вполне аутентичен: он появляется у самого Ауэрбаха во введении, предпосланном «Четырем исследованиям по истории французской культуры» (небольшая книжка 1951 года); там наш автор характеризует всю свою многолетнюю работу на культурно-герменевтическом поприще как «поиск некой исторической топологии».
Имеется в виду следующее: своей задачей Ауэрбах видел не только поиск и выявление выразительных форм (точнее, по его собственным словам, «форм мышления, чувствования и выражения»), — дело чистой, специализированной филологии, — не только выстраивание этих форм в их систематическом взаимоотношении (область истории идей и социологии культуры), но еще и постановку вопроса о соотношении этих форм с так называемой действительностью. Не углубляясь в философские истолкования этого последнего слова (понятия о действительности и ее изображении занимают особое место в ауэрбаховедении!), скажем несколько упрощенно, что действительность здесь тождественна истории как таковой. История в данном случае, следует уточнить, не просто череда фактов из прошлого. Это скорее цепочка мировоззрений, воспроизводящих мир и бытие в нем; сам Ауэрбах восхищался тем, как предмет исторического познания определен у Вико в «Новой науке»: история обращается не к «миру природы» (объективным фактам), а к «миру народов», или просто миру людей, — то есть к человеческим бытию и представлению как таковым.
Историческая топология в общем виде — это «сверхфилология», способная, во-первых, выделять «топы», или ключевые места (их конкретность может доходить до самых мелких деталей: можно, скажем, выявить наиболее представительного автора эпохи, у него найти наиболее важное произведение, а в этом произведении найти один центральный фрагмент; в отдельных случаях речь вообще идет о каком-нибудь одном слове); во-вторых, картографировать получившиеся ландшафты и сводить все «места» в единый контекст рельефных взаимоотношений (филологический историзм) и, в-третьих, на этом обобщающем, укрупняющем витке опять возвращаться к конкретности человеческого бытия, взгляда, к изображенной действительности мировоззрений.
Говоря обо всем этом, следует все же помнить, что сам Ауэрбах последовательно, намеренно воздерживался от чрезмерного теоретизирования и вообще отказывался сводить свои взгляды в, как он говорит, Lehrgebäude, или упорядоченную систему знаний. К несомненной определенности следует стремиться только в частностях (тех самых «топах»), в то время как всякое обобщение («историзация») должно сохранять свойства «эластичной ткани». История у Ауэрбаха топологична, а топология — исторична. Исследователь, стремящийся к строгой систематике, подчиняет реальность методу и сам становится заложником своей специализации. Как только эта ловушка замыкается, ткань исследования теряет свою эластичность и превращается в дробный набор затвердевших тезисов, каждый из которых всегда можно разрушить через помещение его в различные среды. В этом смысле топология есть просто внимание к деталям, а историзм можно понимать как контекстуализацию этих деталей и их синтетическое переосмысление.
Общетеоретические комментарии у Ауэрбаха никогда не стояли в центре внимания. Текстов обобщающего толка у него довольно мало, и каждая его более или менее доктринально-методологическая заметка становится объектом повышенного внимания со стороны современных исследователей. Так, сам оборот «историческая топология» встречается у нашего автора лишь однажды. Но это упоминание мимоходом абсолютно бесценно: Ауэрбах говорит не о частном явлении, а об общем элементе, объединяющем вообще все его работы. Впрочем, речь идет только о «поиске» исторической топологии. И даже, что еще характернее, — о поиске «некой» исторической топологии. Ауэрбах остается верен себе и осторожно избегает прокрустова ложа схоластических категорий.
— Расскажите, пожалуйста, о составе сборника. Почему были выбраны именно эти тексты?
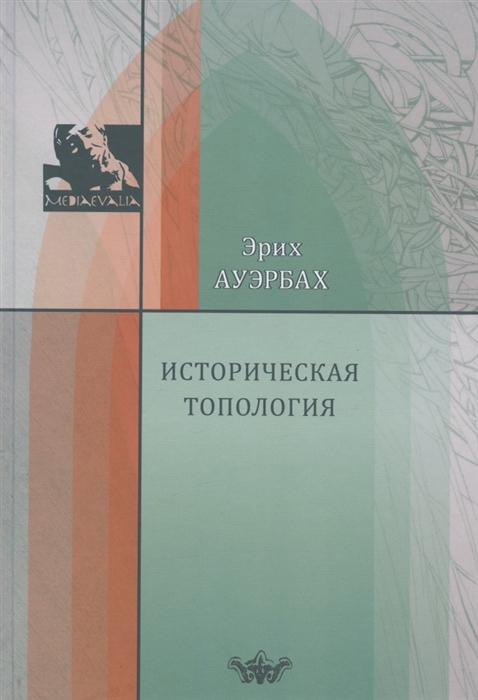 — В первую очередь в него входит последняя книга Ауэрбаха — «Литературный язык и публика в латинской поздней Античности и в Средневековье» (1958; ее выхода сам автор уже не увидел). Сопровождается она пятью статьями разных лет: Figura (1938; главная из малых работ Ауэрбаха, по значимости сравнимая с «Мимесисом»), «Passio как страсть» (1941; вторая статья в ряду семасиологических изысканий, где также на примере одного слова демонстрируется целый срез в истории литературы), «Вико и эстетический историзм» (1949; одна из сравнительно немногочисленных работ Ауэрбаха на английском языке), «Филология мировой литературы» (1952; единственный текст в сборнике, который ранее уже переводился на русский и здесь представлен в новом виде) и «Эпилегомены к „Мимесису“» (1953; программный обзор научной рецепции главной книги Ауэрбаха). Как можно заметить, статьи расположены хронологически, однако топологический подход делает их последовательность скорее идейной: от «Фигуры», которая стала для Ауэрбаха прорывом к новой гуманистической филологии, до автокомментария с обзором главнейших идей, к которым эта филология привела.
— В первую очередь в него входит последняя книга Ауэрбаха — «Литературный язык и публика в латинской поздней Античности и в Средневековье» (1958; ее выхода сам автор уже не увидел). Сопровождается она пятью статьями разных лет: Figura (1938; главная из малых работ Ауэрбаха, по значимости сравнимая с «Мимесисом»), «Passio как страсть» (1941; вторая статья в ряду семасиологических изысканий, где также на примере одного слова демонстрируется целый срез в истории литературы), «Вико и эстетический историзм» (1949; одна из сравнительно немногочисленных работ Ауэрбаха на английском языке), «Филология мировой литературы» (1952; единственный текст в сборнике, который ранее уже переводился на русский и здесь представлен в новом виде) и «Эпилегомены к „Мимесису“» (1953; программный обзор научной рецепции главной книги Ауэрбаха). Как можно заметить, статьи расположены хронологически, однако топологический подход делает их последовательность скорее идейной: от «Фигуры», которая стала для Ауэрбаха прорывом к новой гуманистической филологии, до автокомментария с обзором главнейших идей, к которым эта филология привела.
Каждая из работ, входящих в сборник, — это самостоятельный труд (так можно говорить даже о главах «Литературного языка»; между прочим, приложение к первой главе, — Gloria passionis, — частично воспроизводит статью «Passio как страсть»: довольно интересно взглянуть на то, как Ауэрбах видоизменяет свой собственный более ранний текст), и все же они составляют некое единство (о «Литературном языке» сам автор говорит: это «фрагменты», но читатель может почувствовать в них «некую цельность»).
Можно даже сказать, что это «топы», складывающиеся, как точки в пространстве, в определенную «фигуру». Сам Ауэрбах пользовался этой техникой повсеместно. Вспомним, например, ту же книгу о французской культуре, из которой заимствовано понятие исторической топологии. В нее входят четыре статьи, все — ранее опубликованные, но все вписанные в новый контекст и снабженные объединяющим методическим введением. (Так, работа с общим названием «Французская публика XVII века» получает там заголовок La cour et la ville («Двор и город»), — самую широкую тему Ауэрбах сводит к двум ключевым понятиям, чтобы от них вновь вернуться к обобщению — приближение к филологии отправных точек.) То же самое — «Литературный язык». В книге представлены работы разных лет, сведенные воедино и спаянные предисловием «О цели и методе». По тому же принципу «динамических связей» (термин Дильтея) составлена «Историческая топология».
Цель этого сборника — продемонстрировать ауэрбаховскую филологию как метод; по «Мимесису» или «Данте как поэту земного мира» (то есть по тем книгам Ауэрбаха, которые ранее уже переводились на русский) этот метод не вполне очевиден. Для максимальной конкретности книга снабжена более или менее развернутым предисловием, в котором жизнь, идея и миф Ауэрбаха представлены, согласно его собственным заветам, в неразрывном синтезе. «Эпилегомены» кончаются известной фразой: «„Мимесис“ — это книга, написанная определенным человеком в определенной ситуации». По существу, таков принцип, такова мерка, с которой Ауэрбах призывает подходить к вообще любому произведению. Это и есть, без догматизма и усложнений, историческая топология.
— Топология как метод в литературоведении обычно ассоциируется с другим автором, которого вы тоже переводили на русский, — Эрнстом Робертом Курциусом. Однако во вступительной статье вы пишете, что отношения между двумя классиками были довольно напряженными. Ауэрбах действительно считал, что они с Курциусом занимаются одним делом?
— Здесь интересно будет для начала уточнить один терминологический момент, который обычно теряется в переводе. Сам Курциус термином Topologie никогда не пользовался; чаще всего «топологией» называют его Toposforschung. В «Европейской литературе» Курциус говорит еще об «исторической топике», основания для которой он намеревается отыскать. Ауэрбах же в своей известной рецензии из Romanische Forschungen (1950), формулирует чеканную фразу, которую теперь можно найти буквально повсюду: «Метод Курциуса — топология». В чуть более ранней англоязычной рецензии из Modern Language Notes тоже есть похожая формулировка: «Главный метод — „топология“» (здесь примечательна постановка слова в кавычки). И. Л. Попова (ее статья о Курциусе вошла в замечательный сборник «Клио в зазеркалье» 2021 года), ссылаясь на эту фразу Ауэрбаха, вообще утверждает, что именно с его подачи филологию Курциуса стали прочно ассоциировать с учением о топосах. В такой формулировке это, пожалуй, некоторое преувеличение, но сам термин Topologie в данном приложении — действительно скорее ауэрбаховский.
И понимать его стоит, очевидно, достаточно широко. Да, в рецензии на «Европейскую литературу» Ауэрбах именует топологией собственно изучение топосов. Но очень скоро, примерно через полгода, он уже называет топологией свой собственный метод, никак не связанный с риторическими фигурами и их выживанием в европейской традиции. Еще через год он переходит к понятиям «филология мировой литературы» и «филология отправных точек». Во всех случаях имеется в виду приблизительно одно и то же: умение нового филолога переключаться между микро- и макроскопией, отказ от искусственных и абстрактных категорий в пользу максимально конкретных атомов реального текста. В этом, методическом, смысле Курциус и Ауэрбах действительно оказываются очень близки.
Курциус сравнивает свой метод с аэрофотосъемкой и топографическими картами, на которых можно радикально менять масштаб: от мелких подробностей до общего плана. Из десяти «руководящих принципов», вынесенных у Курциуса в начало «Европейской литературы», целых три посвящены умению нового филолога сочетать специализм с универсализмом. Ауэрбах в 1952 году называет книгу Курциуса образцовым примером того, как к самой общей теме можно подступать на самых четких основаниях. Так что Ауэрбах действительно — и не без оснований! — считал Курциуса (а также Шпитцера, Беццолу и еще нескольких выдающихся современников) своими единомышленниками и представителями одной школы. Но только в том, что касается самих принципов, подходов к работе. Что касается содержательных выводов, здесь картина заметно меняется. Шпитцера Ауэрбах обвиняет в переоценке частностей и произвольном, «мелодраматичном» толковании духовного содержания рассматриваемых произведений; Курциуса — в невнимании к типологии и аллегорезе, а также в пренебрежении к народным явлениям литературы (которая у Курциуса становится чисто книжным, ученым феноменом). О «Европейской литературе» Ауэрбах говорит, что это книга, которой он «многим обязан», но с которой при этом «почти ни в чем не согласен».
Важно добавить, что все общие элементы у филологов своей формации Ауэрбах считал в некотором роде исторической неизбежностью. Курциус, Шпитцер, Менендес Пидаль и сам Ауэрбах пришли к схожей методике не оттого, что они как-то особенно близки между собой. Дело скорее в том, что само развитие науки и «мира людей» подталкивает гуманитарную мысль к коррекции курса; объемы материала заставляют искать новые варианты подступа к темам, а внешние процессы обязывают многое пересматривать и перетолковывать. В таких условиях самые разные умы, побуждаемые судьбой, начинают мыслить в схожих категориях фазового перехода.
Обобщая сказанное, можно ответить следующим образом: да, в каком-то смысле Ауэрбах действительно считал, что они с Курциусом заняты одним делом, но дело это — не изучение топосов, не сопоставительная стилистика, не историческая семантика, не фигурализм и не история литературного реализма. Речь идет только и исключительно о кропотливых поисках филологии будущего.
— Ауэрбаха и Курциуса, помимо некоторых общих установок, роднит еще кое-что — сложные взаимоотношения с собственным государством. Курциус был ярым антифашистом, Ауэрбаху вообще пришлось эмигрировать. Стала ли для них медиевистика и вообще научная работа способом выражения гражданской позиции?
 — В этом смысле примечательны сходства и различия в биографии двух ученых. Оба они пережили две мировые войны, оба с 1914 года воевали на Первой мировой, оба были тяжело ранены. Курциус, впрочем, занимался филологией с юности, как минимум с 1903 года, а на войне, вплоть до ранения, пробыл несколько месяцев; уже в 1916 году он вернулся к науке, литературоведению, преподаванию. Ауэрбах, с другой стороны, прошел всю Первую мировую, пробыв на фронтах в общей сложности около трех с половиной лет; до войны он занимался юриспруденцией и имел степень doctor juris, а в 1919 году, восстановившись после ранения, он меняет в возрасте 27 лет свою жизнь и обращается к романистике. Первые филологические работы Ауэрбаха относятся к началу 1920-х годов, первые серьезные — к 1926 году.
— В этом смысле примечательны сходства и различия в биографии двух ученых. Оба они пережили две мировые войны, оба с 1914 года воевали на Первой мировой, оба были тяжело ранены. Курциус, впрочем, занимался филологией с юности, как минимум с 1903 года, а на войне, вплоть до ранения, пробыл несколько месяцев; уже в 1916 году он вернулся к науке, литературоведению, преподаванию. Ауэрбах, с другой стороны, прошел всю Первую мировую, пробыв на фронтах в общей сложности около трех с половиной лет; до войны он занимался юриспруденцией и имел степень doctor juris, а в 1919 году, восстановившись после ранения, он меняет в возрасте 27 лет свою жизнь и обращается к романистике. Первые филологические работы Ауэрбаха относятся к началу 1920-х годов, первые серьезные — к 1926 году.
Курциус к тому времени активно увлекся идеями нового гуманизма, «Европы духа»; он ездит в Англию и Францию, участвует в «декадах Понтиньи» и в том или ином виде сообщается едва ли не со всеми заметными интеллектуалами межвоенного периода. Идея всеевропейской гуманистической культуры, — обновленной, интернациональной и лишенной искусственных политизированных границ, — обретает для Курциуса культовое значение, и приход нацистов к власти, «поворот к новому варварству», немедленно, уже в 1933 году, становится для него страшным ударом. Его книга-предупреждение Deutscher Geist in Gefahr («Немецкий дух в опасности») 1932 года оказывается сбывшимся пророчеством. Курциус переживает мировоззренческий кризис и нервный срыв, бросает в типографии уже готовую книгу Elemente der Bildung («Элементы образования») и какое-то время пребывает в идейном тупике, пытаясь найти хоть какой-то путь для гуманитарной науки в темные времена.
Ауэрбах в те же годы делает первые шаги на новом поприще, занимается своей диссертацией, получает должность библиотечного советника, а затем — профессорское кресло. Он знакомится с Кроче, переводит Вико, обращается к дантоведению. Военная травма заставляет его целиком переключиться на работу и личную жизнь (Ауэрбах женится, у него рождается сын) и полностью, насколько такое вообще возможно, закрыть глаза на политику и все происходящее в Германии.
1933 год словно проходит мимо Ауэрбаха; какое-то время его защищает «Железный крест», полученный за боевые заслуги: первая волна расовых чисток в университетах Ауэрбаха не затрагивает, и это дает ему возможность еще примерно три года делать вид, что ничего не происходит. Реальность настигает Ауэрбаха в 1936 году, когда его увольняют из университета и признают «политически неблагонадежным» (позже его и вовсе лишили гражданства, собственности и имущества). В Стамбуле, где он не без труда находит прибежище, Ауэрбаха наконец захлестывает тот же самый экзистенциальный кризис, который уже несколько лет мучил Курциуса. Гуманитарная наука в ее привычном виде обессмысливается, а гуманизм как таковой требует радикального переосмысления.
Ауэрбах пребывал в этом пограничном состоянии около двух лет, а Курциус — около пяти. К 1938 году их обоих посещает озарение, и с этого времени их усилия как бы выравниваются на параллели. Ауэрбах в 1938-м пишет и публикует свою «Фигуру», в которой фактически излагает оригинальный взгляд на мировую культуру, способную, по Ауэрбаху, «свершаться» в повседневности, таким образом постоянно обновляясь и даже гарантируя некое обетование в будущем. Курциус тогда же начинает свой цикл Zur Literarästhetik des Mittelalters («К литературной эстетике Средних веков»): первый подступ к будущей «Европейской литературе»; по сути — новая теория всеевропейского единства, которое отыскивается теперь не в больших литературах и интеллектуальных течениях (провалившийся «веймарский» подход), а в чем-то малом, наглядном и конкретном; вместо воздушных замков — отдельные камни, не столь, может быть, привлекательные, зато осязаемые, основательные, устойчивые. Как результат: 1945-й — «Мимесис», посвященный единству западноевропейской литературы с западноевропейской реальностью, где одно истолковывается и, что еще важнее, актуализируется через другое; 1948-й — «Европейская литература и латинское Средневековье», посвященная, опять же, единству западноевропейских символических форм и, в сущности, мыслительных моделей.
Таким образом, разными путями, Курциус и Ауэрбах пришли к одной проблеме: девальвация гуманитарного знания, резко набиравшая обороты со второй трети XX века; и подступили, каждый по-своему, к одному решению — реформаторскому пересмотру всего, что связано с «историей духа». В письме к Трауготу Фуксу от 1938 года Ауэрбах говорит, что задача гуманиста в сложившихся обстоятельствах — не в осмыслении зла, а в поиске той объединяющей исторической силы («истины и правого дела»), которая смогла бы объединить и в зримом виде сформировать все то, что этому злу противопоставляется. Задачи филолога и гражданская позиция оказываются здесь неразделимыми.
— В каком вообще состоянии находилась немецкая филология к окончанию войны? Культурную элиту Германии принято обвинять в сотрудничестве с нацистами — насколько обвинения были оправданы и как академическая среда справлялась с этой травмой?
— Филология к середине XX века в целом, — не только в Германии, — уже находилась в состоянии плачевном. Собственно, потому сегодня мы и помним главным образом тех, кто попытался ее реформировать и реанимировать. Ситуацию еще усугубила гибель некоторых заметных ученых — Карла Эрдмана, например, — на фронте (Курциуса, кстати, под конец войны пытались бросить в народное ополчение, но ему удалось скрыться; его любимые ученики Ойген Деркен и Ойген Гас оба погибли в 1944 году).
Удивительным образом среди немецких филологов с нацистами особенно охотно сотрудничали филологи-классики, — даже не германисты! — которые, казалось бы, взращены на гуманистических идеалах и под ногами имеют крепчайшую почву, какая только есть на этом поле деятельности. Очевидный пример здесь — Рудольф Тилль, высоколобый интерпретатор Катона и Тацита, а одновременно — высокопоставленный функционер SS. Другой классик, Ганс Дрекслер, заведовал специальными идеологическими семинарами «Национал-социалистического союза немецких доцентов», где преподавательский состав подвергали массированной обработке «воспитательной» пропагандой, основанной на (искаженных, скажем прямо!) идеях так называемого третьего гуманизма (тоже основанного на греко-римском идеале); Дрекслер написал шесть томов о гекзаметре и примерно столько же доносов. Ойген Ферле, автор книги о ритуальной чистоте в античной религии, занял в какой-то момент должность университетского цензора и в звании штурмбаннфюрера поддерживал ритуальную чистоту немецкого образования. Еще можно вспомнить, скажем, Вольфганга Али, писавшего на латинском языке, под именем Вольфгангус, монографии о речевых оборотах у Эсхила и одновременно, еще с 1930 года, агитировавшего (уже, надо полагать, по-немецки!) за НСДАП.
В чем причина такого обстоятельства, почему именно классическая филология с рвением вставала на защиту античеловеческого режима? Тут вряд ли можно ответить однозначно. Не исключено, что в самой дисциплине заложен какой-то элемент преклонения перед имперством и цезаризмом. Возможно (и я больше склоняюсь к этому варианту), классические филологи, стремительно превращавшиеся в кабинетных начетчиков современного типа, просто ощутили себя «нужными» и не устояли перед искушением. Мы уже много говорили о том, что филология в середине XX века искала дорогу к обновлению, и вот это, по существу, еще один пример, но только ошибочный и преступный: Altertumswissenschaft, сливаясь с властью, искала приобщения к какой-то жизни, ждала какого-то переливания крови; чья это будет жизнь и чья кровь — такой вопрос не ставился. Хороший пример в этом плане составляет один эпизод из биографии Рихарда Гардера, специалиста по греческой эпиграфике и члена SA; в 1943 году он вызвался поучаствовать в гестаповском деле о листовках подпольной антигитлеровской группы «Белая роза». Он утверждал, что классическая филология накопила огромный опыт работы с анонимными текстами, а значит, имеет в своем распоряжении все инструменты для вскрытия антивоенного заговора. Рваться к обновлению, иначе говоря, можно по-разному. В этом смысле все отживающее может представлять опасность.
Что касается травмы... Ученые-коллаборационисты повсеместно отделались анкетой по денацификации и письменным признанием своей вины. Большинство названных и неназванных здесь авторов после войны вполне успешно продолжали преподавательскую и писательскую деятельность. Некоторые лишались мест в престижных университетах, но не более того (заметьте, что мы говорим только о тех, кто проявлял политическую активность, а не просто о членах партии! Партийным был, например, Гуго Фридрих, ничем другим себя не запятнавший). Не припомню случая, чтобы кто-то из них проявил подлинное раскаяние. Весь нравственный груз приняли на себя те, кто, собственно, изначально стоял на правильных позициях и ни по каким признакам не нес личной вины. Тот же Курциус — возвращаясь к нашим героям — под конец жизни писал горькие статьи об окончательном закате солнца Эллады и говорил, что раз и навсегда утратил веру в свой народ; тот же Ауэрбах так никогда и не смог вернуться на родину и получил инсульт, просто проехав по Германии.
— Случайность ли, что Ауэрбах и Курциус были романистами? Согласно Ауэрбаху, романские литературы играют в европейской истории особую роль — в чем ее можно увидеть?
 Эрих Ауэрбах
Эрих Ауэрбах
— Действительно, некоторая тенденция прослеживается, и многие романисты эмигрировали из Рейха или занимали антигитлеровские позиции. Скажем, Вернер Краус, у которого Ауэрбах был научным руководителем, и вовсе был приговорен к смертной казни как член Сопротивления; стараниями коллег (Курциуса в том числе) казни он избежал, но провел несколько лет в тюрьме, а в 1945 году был переведен в концлагерь.
Не стоит, конечно, думать, что занятия романистикой сами по себе гарантировали политическую разборчивость. Были и те, кто считал, например, что романская филология в Германии призвана укреплять фашистскую ось с Италией и Испанией (допустим, Рудольф Гросман). Были и германисты c противоположными взглядами (Герхард Шольц). Но тенденциозную линию можно как раз объяснить с ауэрбаховских позиций: говоря об особой роли романских литератур (а конкретнее: французской и итальянской), он имел в виду их общеевропейское значение — в противоположность литературе немецкой, которая почти всегда оставалась национальной. Пальма культурного первенства на европейском пространстве веками переходила от Франции к Италии и назад, что сделало европейскую литературу XII–XVII веков преимущественно романской. Соответственно, только романская филология может проникнуть в существо глобальных литературных процессов, имевших место в Западной Европе за все время складывания великих народноязычных традиций. Так, во всяком случае, на это смотрел Ауэрбах.
— А какие у них были отношения с родной культурой? После войны были очень распространены поиски «корней нацизма» в немецком прошлом: от «Песни о Нибелунгах» и Мартина Лютера до Гете и романтиков. Затронула ли Ауэрбаха эта мания?
— О том, что немецкий романтизм никоим образом нельзя сопрягать с нацистской идеологией, прекрасно написал Лео Шпитцер в своей классической статье «История духа против истории идей в приложении к гитлеризму» (это возражения, направленные против теорий американского философа Лавджоя). Он показывает, в частности, что книги романтиков в предгитлеровском поколении не имели всенародного хождения, что преподавание гуманитарных дисциплин в немецких гимназиях того времени строилось на классике и игнорировало романтику, и романтизм не произвел никакого эффекта на «воспитание масс». Кроме того, говорит Шпитцер, нацисты никогда не опирались на «читающую» часть населения, ориентируясь, напротив, на публику невежественную и податливую. После Первой мировой количество образованных людей в Германии резко упало, вместе с качеством образования; в этот период растущего обскурантизма и расслоения классов как раз и формировался будущий хребет нацизма. Шпитцер вспоминает две цитаты: партийный резерв НСДАП, говорил Томас Манн, формируется из школьных прогульщиков; а немецкие интеллектуальные круги чувствовали такое отчуждение от новой власти, что гитлеровский переворот, по словам Эриха Фегелина, для них ничем не отличался от иноземного завоевания. Не зря я чуть раньше назвал ученых, предложивших свои услуги Третьему рейху, «коллаборационистами», будто сотрудничали они не со «своей» властью, а с оккупационной.
Ауэрбах в этом смысле смотрел на немецкую культуру прошлого примерно так же, как Шпитцер. Он не рвал с ней связей, не считал ее в чем бы то ни было виновной; более того — он многократно подчеркивал свою собственную сопричастность этой культуре. «Мимесис», говорил он, — написанный в Стамбуле, — никогда не появился бы без немецкого образования, а понять эту книгу можно только и исключительно «в традиции немецкой романтики и гегельянства». Критики обвиняли «Мимесис» в невнимании к германоязычным литературам (хотя там есть глава о Шиллере; о тех же «Нибелунгах», между прочим, Ауэрбах говорит, что их трагика стоит гораздо выше роландовской), и в «Литературном языке и публике» можно уже найти сравнительно крупные отрывки, посвященные некоторым вопросам германистики; очень похоже, что это своего рода дань уважения. Ауэрбах говорит в «Эпилегоменах», что для досуга и удовольствия почитает скорее Гете, Штифтера и Келлера, хотя и считает романские литературы исторически более значительными. Тут, правда, стоит отметить, что Келлер — швейцарец, Штифтер — австриец, а Гете... Ну, это, по Курциусу, не немецкий автор, а «универсальный».
Когда Ясперс в 1949 году выступил с идеей о том, что безмерное преклонение перед Гете напоминает принципы политического вождизма и что «немцы более не имеют права кого бы то ни было обожествлять», Курциус отреагировал жестко и болезненно. Гете он готов был отстаивать любой ценой. Еще, наверное, Фридриха Шлегеля. Но в остальном его отношение ко всему немецкому было совершенно не тем, что у Ауэрбаха. Генрих Лаусберг, биограф Курциуса и его ученик, говорит даже о «фобии» Курциуса перед всем германистическим. Он регулярно выбирал себе какого-нибудь германиста для нападок, свою книгу называл «антитевтонской», а британскому поэту Спендеру вообще говорил о том, что война пробудила у него «неописуемое отвращение» ко всему немецкому. Даже Гете и Ф. Шлегеля он любил скорее из-за их связей с романским миром и оттого, что не усматривал у них ничего немецкого. Ауэрбах, навсегда покинувший родину, сохранял с ней внутреннюю связь, а Курциус, остававшийся в Германии, чувствовал себя абсолютным чужаком.