«Я отправился в Стамбул преподавать математику, потому что одержим Византией»
Научная биография математика Сусуму Танабэ
«Меня всегда тянет в сторону, за пределы установленной парадигмы»
В начальной школе я увлекался химией. Однажды в книге по химии мне встретился тройной интеграл: я был поражен красотой этой формулы, но ничего не понимал. До этого я изучал химические соединения, как разные кислоты получаются, а теперь мне стало интересно, каким образом математика описывает разные законы, в том числе химические. Я стал посещать в школе клуб любителей математики, и старшие товарищи, которые очень хорошо разбирались в математике, учили меня дифференцированию и интегрированию; мне было тогда, в 1976 году, двенадцать лет. Потом я начал изучать физику и ньютоновскую механику. Мой подход к математике заключался в том, чтобы научиться описывать физические и химические явления с помощью математических формул. Обычно у математиков интерес проявляется чисто аксиоматический: они начинают с теории чисел, например, или как-то так, а для меня с самого начала математика была языком, который описывает законы природы. И до сих пор так и есть. Часть моих теоретических исследований по алгебраической геометрии связана с теоретической физикой, теорией струн. Не целиком, но я нахожу применение своей науки к оптике, к разным разделам физики, и это дает большой стимул. Примерно так же поступали ученые XVIII–XIX веков, они искали способ описать природные явления с помощью дифференциальных уравнений, разных математических аппаратов — и я нахожусь примерно в таком же положении, и этим, вероятно, сильно отличаюсь от большинства математиков, которые остаются внутри одной парадигмы. Меня всегда тянет в сторону, за пределы установленной парадигмы.
Хорошие книги по интересовавшим меня областям науки в Японии в то время были доступны. Например, в двенадцать лет я начал читать популярные книги великого математика Пуанкаре. В Японии выпускаются такие карманные книжки по достаточно низким ценам — я начал их читать, изучал почти все, которые касались естественных наук. Там было про теорию чисел Дедекинда, «Введение в математическую философию» Рассела, «Школа химии» Оствальда — много всего. Это издательство называется Iwanami, оно одно из старейших на научном книжном рынке в Японии. Серия, о которой я рассказываю, начала выходить с 1927 года, она покрывает почти всех европейских классиков, начиная с Гомера, Платона, Аристотеля и т. д.
Изучал я почти все сам. Учителя нашего лицея, одного из самых престижных в Токио, скорее ставили мне препятствия: они не понимали моих стремлений. Я как-то задал вопрос по поводу закона Ампера, который мы проходили, — мне показалось, что он очень напоминает формулу Коши (интегральную теорему Коши, теорию комплексных функций). «А, тебе не понять», — был ответ. Теорию комплексных функций изучают студенты на математическом факультете на 2–3 курсе, а я ее изучал в лицее, но учителя абсолютно холодно к этому относились. Никакого поощрения не было. И мой отец, архитектор, был против, чтобы я занимался чисто теоретической наукой, он хотел, чтобы я стал инженером или большим чиновником. Он был против математики, против русского языка, который я начал учить в тринадцать лет. Русский ему не нравился, потому что это язык врага. Когда кончилась Вторая мировая война, ему было шестнадцать лет. Он хорошо помнит, что 6 августа, в тот самый день бомбардировки Хиросимы, советская армия вторглась на территорию Манчжурии, оккупировала северные территории: соответственно, для поколения моего отца Советский Союз, Россия — агрессор, нарушитель договоренностей. Тогда очень мало людей относилось к России хотя бы нейтрально.
«Перейти от католицизма к православию было не так уж сложно»
Русский язык я начал изучать так. У меня была мечта путешествовать: не географически, а в пространстве мысли, наук. Я начал читать японских классиков на древнеяпонском языке где-то в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. Потом стал читать китайских классиков: Конфуция и других, а потом начал изучать китайский язык. В Японии есть хорошая радиопередача, с помощью которой можно выучить грамматики главных языков. Я слушал эту передачу каждый день: там поочередно были китайский, русский, немецкий и французский языки. Я решил начать свое путешествие в мыслительном пространстве с Востока. Китайская цивилизация — это основа японской культуры. Следующим был русский, и я пошел на Запад. В этой передаче с понедельника по четверг объясняют грамматику и дают словарный запас, а в пятницу и субботу читают тексты: я помню «Белые ночи» Достоевского, переписку Чехова с Ольгой Книппер, стихи Блока, отрывки из «Анны Карениной». Каждый семестр разбирался какой-то текст, а слушатель следил за этим процессом и самостоятельно работал. Первой подработкой, появившейся у меня в студенческое время, было преподавание русского языка. На мой взгляд, лучший способ выучить иностранный язык — преподавать его (смеется). Когда ты преподаешь, ты отвечаешь за те знания, которые нужно передать. Это не пассивное изучение, ты ответственен перед учениками, так что тебе надо готовиться, хорошо знать все тексты, все грамматические формы, уметь объяснить — такая дисциплина, психологический прием. Я рекомендую многим — не знаю, последовал ли кто-нибудь моему совету. Если человек выучил грамматику, то следующий шаг — чтение текстов и т. д. А третья ступень — сочинять что-то на этом языке.
Сначала у меня появился интерес к лингвистике, а русской культурой и литературой я начал интересоваться позже. Я читал Достоевского и Бердяева, «Миросозерцание Достоевского», в японском переводе. Еще раньше я начал заниматься греческим и латынью, стал читать Платона: античная философия, потом православие, христианство, потом Достоевский. Но сам я католик, я из католической семьи, учился в начальной школе при женском монастыре, так что катехизис входил в мою повседневную жизнь и перейти от католицизма к православию было не так уж сложно.
«Я занимался схоластикой и средневековой философией параллельно с математикой»
После лицея я поступил в Токийский университет, там в течение первых двух лет студенты размышляют над дальнейшим направлением. Я был в классе, где учились будущие технари, химики, биологи, физики (т. е. не только математики). Потом нужно было выбрать направление: учиться на инженера, или физика, или математика. Я колебался — не лучше ли заняться теоретической физикой, — но была твердая уверенность, что мое будущее занятие должно быть связано с математикой, она должна играть существенную роль в той науке, которую я выберу. В конечном счете я предпочел математику, потому что мне показалось, что строгость рассуждений в ней совсем иная, чем в прочих науках. Это такая опора, а в других науках все как-то более вязко, что ли. Я решил остановиться на математике: мне казалось, что это самая подходящая для меня наука, если я ее одолею, то смогу любой другой наукой заниматься. И оказался прав. Я могу разобраться почти в любой научной статье любой дисциплины. Поэтому у меня довольно много знакомых и друзей, которые обращаются ко мне за советом по поводу своих научных работ в области химии, биологии, медицины, психиатрии, экономики, социологии. Я стараюсь отвечать. Конечно, я не могу прочитать всю предыдущую литературу, но структура научной мысли имеет универсальный характер. Конечно, в каждой науке немножко по-разному все строится, в рамках вариаций — я более-менее владею этим клубнем и могу разобраться.
Уже тогда меня стала привлекать советская математическая школа, и я познакомился с учебником Ивана Георгиевича Петровского «Лекции об уравнениях с частными производными». Он был ректором Московского университета с 1951-го по 1973-й. Как-то я попал на семинар, где участники должны были читать и разбирать эту книгу. Я купил научные труды Петровского в 1987 году, мне было тогда двадцать три года. Есть такой книжный магазин «Наука» в центре Токио, я заказал специально эту книгу, и она обошлась мне в 5430 йен, это по нынешним деньгам 50 долларов, но тридцать лет тому назад это было существенно больше, чем сейчас. Так советская математическая школа появилась в моем поле зрения уже на первом курсе университета. Я мечтал попасть на семинар кого-нибудь из учеников Петровского, они работали в МГУ. Два года отучившись в магистратуре, поступил в аспирантуру (PhD в Токийском университете), и тогда у меня появилась возможность поехать в Москву и учиться как стипендиат советского правительства. Это было в 1989 году, сразу после магистратуры. Время очень тяжелое, самый конец перестроечного периода, невозможно было ксерокопию сделать и т. д. Я приехал на мехмат МГУ и, к счастью, попал на семинар выдающегося математика Владимира Игоревича Арнольда, и он стал моим научным руководителем. Я жил в общежитии МГУ и с утра до ночи занимался. Поскольку не было ксерокопий, приходилось копировать статьи от руки. Каждый день нужно было стоять в очереди за молоком внизу в столовой минут 20–30, у меня все время с собой был портфель с рабочими материалами, статьями, в которых хотелось разобраться, или вычисления — вот такое. Я стоял и читал — так я занимался.
Конечно, я заинтересовался русской культурой и старался читать как можно больше классиков, всех подряд. К этому времени я уже прочитал собрания сочинений Пушкина, Гоголя и Чехова, в основном на японском. Романы Достоевского я читал частично на японском и частично на французском. Поскольку мне очень хотелось понять средневековую культуру, я занимался схоластикой и средневековой философией в течение десяти лет в Токийском университете, параллельно с математикой, то есть учился одновременно на математическом и философском факультетах. Я читал Августина, Григория Нисского, византийских Отцов Церкви, Дионисия Ареопагита, Фому Аквинского в оригинале. Мне очень хотелось познакомиться с православным духовным наследием, богословской традицией, поэтому я решил изучить старославянский язык. Был кружок недалеко от университета, где люди занимались по воскресеньям старославянским. Там я познакомился с разными поэтами, любителями литературы, они рассказывали мне про поэтов, которых я не знал: про Ахматову, Пастернака, Мандельштама. Они все вошли в мою жизнь через этот кружок. Изучение старославянского было только частью деятельности кружка: люди собирались, читали и обсуждали свои стихи — такой клуб любителей словесности. Потом меня познакомили с Григорием Дашевским и семьей Анатолия Наймана, с его дочерью, Анной Наринской, а уже через них я познакомился с самыми разными людьми, которые специализируются в лингвистике, истории, философии и т. д.
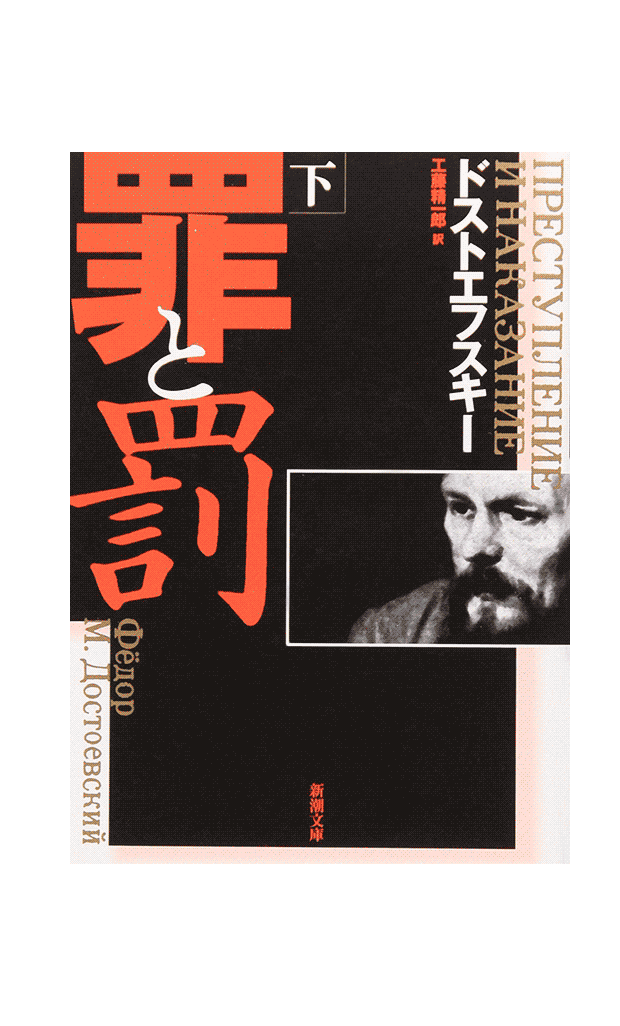
В общем, у меня был этот кружок, Гриша, выходцы филфака МГУ, а еще один круг общения состоял из книжников, любителей книжек, которые посещали спекулянтов. Тогда несколько комнат в общежитии функционировали как подпольные книжные магазины: люди в них встречались, спрашивали, какие книги есть, каких нет, и я познакомился там с аспирантами других факультетов, особенно с философами. Это было чрезвычайно важное для меня событие. Они тоже жили в общежитии, и мы могли сидеть до часу, двух, трех. Говорили о разных культурных событиях, об истории — тогда знания, которые не были доступны многим, стали доступными. Так что, несмотря на дефицит (в гастрономах продавали только грязную гнилую картошку и морковку), наша жизнь была полна энтузиазма и радости от познания, дискуссий и прочего. Это было в 1990–1991 годах.
«Чего японцу в Москве надо?»
Чтобы защитить диссертацию, я вернулся в Токио, но потом решил, что мне не хватает знаний по топологии и алгебраической геометрии. Я готовился как специалист по анализу, по дифференциальным уравнениям. Анализ, геометрия, алгебра — три основных раздела математики, а я в Токио занимался в основном анализом. Я полагал, что можно осуществить такой анализ, чтобы изучалось не какое-то локальное свойство, а нечто более глобальное. Соответственно, нужно было заняться топологией, т. е. наукой о глобальных свойствах геометрических объектов. Мне показалось, что двухгодичного пребывания в Москве было недостаточно, для того чтобы развить эту мысль, поэтому я вернулся в Москву и устроился работать в Институт проблем управления (ИПУ).
Устроиться туда было не так просто. В МГУ я познакомился с математиком Александровым, работавшим в ИПУ, он приходил на семинар профессора Паламодова. Я поделился с ним своими соображениями, а он сам алгебраист, понял, что я умею кое-что считать, и решил меня пригласить на работу. Он уговаривал своих начальников, которые подозревали меня в шпионстве. Чего японцу в Москве надо? А ИПУ — закрытый институт, там делали подводные лодки. Время было смутное, и мне как-то удалось туда проникнуть, я начал работать в качестве старшего научного сотрудника в 1993 году. Одновременно у меня была постдокторская позиция в Токийском университете: девять месяцев я проводил в Москве и три месяца для отчетности находился в Токио. Так было два-три года, а потом у меня кончилась японская стипендия, пришлось искать другие источники, зарплата в России была копеечная, поэтому я ездил по разным странам на гостевые, постдокторские позиции. Работал в Германии, участвовал в довольно авантюрном научном проекте в Греции, который провалился, а я остался в буквальном смысле без штанов. Работал во Франции, преподавал, замещал отсутствующих преподавателей, два года работал в университете Нанси в Лотарингии — восточная часть Франции. Краткосрочные контракты у меня были в Англии, Италии, Японии.
С 1993-го по 1999-й я работал в ИПУ, а потом вышел указ от президиума Академии наук сократить 15% сотрудников. Перед заведующим лабораторией стоял выбор: сократить меня или безнадежного алкаша. Он меня сократил и правильно сделал, полагая, что я-то в любом случае выживу, а алкаш умрет, если его сократят. Таким образом, меня просто выгнали из института, и я перешел в Независимый Московский Университет. Он был создан в начале 1990-х усилиями ведущих математиков разных научных школ: Арнольда, Новикова, Гельфанда, Винберга. Я там преподавал с 1998 по 2006 год, в 2006 году мне предложили профессуру в Японии в городе Кумамото, там я преподавал четыре года, а в 2010 году уехал в Стамбул и по сей день там работаю.
«Моя духовная ориентация была направлена на христианство и католицизм с самого раннего детства»
Я отправился в Стамбул преподавать математику, потому что он и есть Константинополь, а я одержим Византией. Работаю я во франкоязычном университете, это совместный турецко-французский проект, созданный в 1992 году. Все занятия ведутся на французском языке, много французских преподавателей, человек 50–60, такой маленький островок Франции посреди турецкого моря. А интерес мой к Византии связан вот с чем. Я начал изучать греческий и латынь сравнительно рано, в пятнадцать лет. В течение четырех месяцев интенсивно занимался греческим языком, выучил грамматику более-менее. Моя духовная ориентация была направлена на христианство и католицизм с самого раннего детства, чтение Евангелий входило в мою повседневную жизнь. Первым текстом, прочитанным мною на греческом, стала «Апология Сократа» Платона, но большую часть диалогов Платона я читал в переводах японского философа Танаки, профессора университета Киото. Античную культуру я рассматривал как предысторию культуры христианской, это основа, на которой появились понятия Троицы, ипостаси и т. д. Поскольку основным моим занятием была математика, я уделял совсем мало времени средневековой философии. В течение недели —с понедельника по пятницу с утра до вечера — шли занятия. И я выделил один день: например, по четвергам читал полдня Августина, изучал его текст и то, что было вокруг него, — в основное же время занимался математикой и теоретической физикой. А на первом и втором курсах я участвовал в семинаре, где читали Евангелия на греческом, эти занятия вел профессор Араи, очень большой текстолог, он учился в Нюрнберге, занимался рукописями Мертвого моря, гностиками и другим. Я ходил на его семинары каждую неделю. На других занятиях я читал также Ксенофонта, «Войну в Галлии» Цезаря. Первоначальный мой интерес был языковым. Прежде чем изучать греческий и латынь, я уже освоил русский, немецкий, французский, английский и хотел понять, как они сложились, в чем похожи. Поэтому я изучал лингвистику, а в качестве текстов выбирал философию, Евангелия, трагиков (Эсхила, Еврипида, Софокла). То, что читал в японском переводе, было непонятным. А я в силу своего характера не могу оставлять ничего непонятым, это вызывает у меня просто физическую боль. Перевод ведь рассчитан на то, чтобы читатель понимал суть Платона, Аристотеля, а я читаю-читаю и ничего не понимаю. И тогда я начал копаться, сначала изучал этимологию, потом стал абстрактные понятия уточнять.
В христианстве достаточно большую роль играет антропология — учение о том, как устроен человек. Этим вопросом я начал интересоваться сравнительно поздно, может быть, в магистратуре. Я изучал «Исповедь» Августина, мы читали в оригинале Григория Нисского, одного из Отцов Церкви, брата Василия Великого. Он замечательный философ, один из самых выдающихся византийских мыслителей. Антропологию он разрабатывает в толковании на «Песнь песней». Еще у него есть трактат «О жизни Моисея» — это как раз о жизни человека, развитие человеческого сознания, духа. Сейчас, в Стамбуле, помимо лекций по математике, я читаю и лекции по эпистемологии: конечно, я объясняю философию Аристотеля, Платона, рассказываю про «Тимея», но ограничиваюсь натурфилософскими аспектами, публично не выступаю с тезисами касательно этики или антропологии. Но в какой-то момент у меня возникло желание писать и про людей, про человеческий дух, душу, психологические аспекты и даже коллективную психологию. Мне сразу стало понятно, что форма научных статей для этого не подходит. Я искал разные формы, писал эссе о музыке, искусстве и т. д., но в какой-то момент сосредоточился на Византии, византийской истории, истории ее внутренней жизни. Там темный лес, очень трудно разобраться в этом. Я давно, уже лет двадцать, читаю романы французской писательницы Маргерит Юрсенар. Она написала замечательный роман «Воспоминания Адриана», ее интересовала археология внутренней жизни римлян начала II века. Римский император Адриан представляет сознание самого высокого уровня — и для античности, и для всей истории человечества. Она взяла этот образец и пыталась раскрыть все возможности и проблемы того времени, которые могла себе представить. Это вопрос любви, ответственности государственного человека, налаживания взаимоотношений между разными нациями — конечно, по большей части все это вымышленное, результат внутренней работы. И мне захотелось попробовать сделать что-то подобное. Я начал писать про Комнинов, династию, правившую Византийской империей с 1081 до 1204 года, когда случился четвертый крестовый поход — Константинополь был взят латинянами и начался упадок византийской цивилизации в целом. Но я выбрал именно XII век — апогей византийской империи, Константинополь был безусловным центром христианского мира, не только политическим, но и культурным. В XIII веке латинский Запад возвысился над Византией, ученик стал сильнее учителя, началось Возрождение. XII век — последний момент, когда византийская цивилизация имела превосходство над латинским Западом. В ней меня привлекает больше всего подход, рассматривающий каждое явление как целое — после Декарта мыслительный процесс всегда начинается с анализа. Сначала анализ, потом синтез, а византийский подход противоположный: сначала целое, потом уже детали. На мой взгляд, этот подход нужно достаточно серьезно пересматривать, я вижу в нем много положительных моментов.
«В каком-то смысле византийское богословие является учением, которое можно использовать в повседневной жизни»
У меня был брат, психиатр, еще он занимался философией медицины. Он умер в 2009 году, оставил достаточно большое наследие, разных программ. С тех пор я начал серьезно заниматься эпистемологией как бы в знак скорби — я хотел продолжить его дело. Он изучал Гиппократа и его учение: например, как влияют на здоровье погода или географические условия, очень холистический подход. Брат пытался переосмыслить этот подход в медицине, особенно в психиатрии. И византийское мышление, с моей точки зрения, оказалось подходящим инструментом, чтобы развить основные мысли брата. Это вопрос достоверности нашего мировоззрения, сложившегося после научной революции XVII века, поэтому я пишу текст, который затрагивает всевозможные стороны человеческой жизни, кажущиеся мне важными и заслуживающими внимания. Я пытаюсь заниматься археологией внутренней жизни византийцев, получается что-то вроде романа, но не совсем, потому что там очень много размышлений — в примечаниях я стараюсь осветить состояние византиноведения, изучение истории наук, философии и прочее. В этом «романе» повествование ведется в сопровождении не менее важного научного анализа и размышлений над мироустройством.
Конечно, холизм византийской культуры рифмуется с другими вещами. К слову, я занимался и занимаюсь до сих пор цигуном — это китайская медицина, она учит налаживать поток внутренней энергии, есть специальные упражнения. Еще есть японская школа под названием сэйтай. Сэй — это регулирование, тай — это тело. Регулирование тела, но это не совсем терапия, это образ жизни, там объясняется даже как зевать. Зевота снимает напряжение. Или как чихать. Если неправильно чихаешь, то какое-то напряжение в мышцах остается, поэтому нужно уметь делать это правильно. Целый комплекс знаний, отдельное медицинское направление, я этим занимаюсь с детства. Абсолютно холистический подход, мой покойный брат очень хорошо владел такой техникой и хотел найти мост между западной медициной, которую он изучал в университете, и сэйтай, японским медицинским направлением.
В каком-то смысле и византийское богословие является учением, которое можно использовать в повседневной жизни, ведь это религиозная практика. Есть Иисусова молитва: «Господь, Иисусе Христе, помилуй мя. Господь, Иисусе Христе, помилуй мя…». И это не глупое повторение, но постепенное проникновение, преобразующее душевное состояние человека. И как-то легче становится, проще бороться с эгоизмом, проще воспринимать чужое мнение, проще понимать других — такое душевное состояние. Конечно, этим надо заниматься, это образ жизни, а не какой-то общий рецепт или формула, которые можно применять как угодно. Все зависит от твоего опыта, от того, как ты живешь. То, как ты провел предыдущий день, влияет на то, насколько глубоко ты можешь проникнуть в литургию. Некоторые слова ускользают, а другие очень живо воспринимаются. Нужно провести определенную внутреннюю работу, чтобы понять этот холистический принцип.