«Я хотел быть похожим на Дуремара»
Читательская биография Псоя Короленко
«Есть что-то общее, игровое и миметическое, в советском и детском чтении»
Моя читательская биография начинается с первого самостоятельно прочитанного слова: «СМАРШАК». За этим именем (чуть позже я узнал, как оно звучит на самом деле) и той книжкой, на которой оно стояло, пришли и Корней Чуковский, и Сергей Михалков, а также Агния Барто и Лев (Лейб) Квитко, которых я путал из-за похожих фамилий, но с годами разобрался, что между ними общего и различного. Вскоре прочитал по слогам и другие слова: «Веселые картинки», «Мурзилка», издательство «Малыш», «Детская литература».
Помню Римму Казакову, Эмму Мошковскую, Елену Благинину с Тюлюлюем и другими прекрасными стихами. Переводя потом детские стихи с идиша, за традицией обращался не только к Овсею (Шике) Дризу в переводе Генриха Сапгира, но и к Елене Александровне Благининой, для которой идиш не был наследием, но она переводила с него, в частности, Квитко.
Неизгладимое впечатление — «Приключения Серого Маламыша» Натальи Дилакторской с иллюстрациями Н. Н. Радлова, обложка, макет и раскраска фотографий Михаила Беломлинского. В этой книжке, которая всего на год младше меня, сконденсирована колоссальная энергия эпоса, триллера и много чего еще.
Много читал мне вслух дед, Марк Михайлович Лион, всю жизнь работавший переводчиком на французский. Он был главным другом и личным примером. Благодаря ему я познакомился с русскими Карлсоном, Винни Пухом, Мэри Поппинс, Чиполлино и другими героями Джанни Родари, Пиноккио (Буратино пришел позже), с «Волшебником Изумрудного города» и его продолжениями. У Волкова особенно понравились «Семь подземных королей», ставшие в голове прообразом взрослой европейской литературы, «зарубежки», как мы потом называли ее на филфаке. Стилизованно романо-германские имена героев перемешивались в голове с актуальным наследием дедушки, детство и юность которого прошли в Женеве и Париже. Немножко от него подцепил и французский, произношение осталось на всю жизнь, но культ интереса к другим языкам обеспечивался прежде всего энергией таких книг.
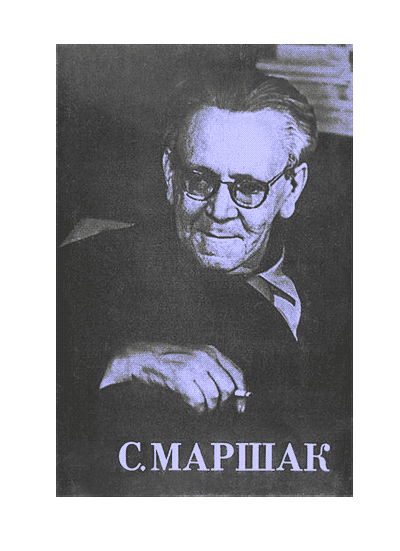 У меня на полке есть «Петушков из Гребешкова» Ирины Кичановой и Владимира Лифшица, создавшего также образ людоведа и душелюба Евгения Сазонова и загадочного Джемса Клиффорда [Евгений Сазонов — вымышленный писатель, чей роман «Бурный поток» начал публиковаться в 1967 году в «Литературной газете». Его авторами были Владимир Лифшиц, Марк Розовский, Вадим Левин и др. Джемс Клиффорд — вымышленный английский поэт-фронтовик, которого придумал Владимир Лифшиц. — Прим. ред.]. Это было более или менее стандартное советское чтение, в позднейшем ретроспективном восприятии попадающее в один спектр с Михаилом Жванецким, пародистом Александром Ивановым, Ильфом и Петровым, с каноном технической интеллигенции, в противопоставлении, скажем, Цветаевой, Ахматовой, Булгакову. С другой стороны, обнаружилось, что этот спектр сложнее и шире, туда входят и приоткрытый «Радионяней» Хармс, и тот же «Смаршак», и другие детско-взрослые писатели, и границы между взрослым и детским, советским и не-советским не доходят до неба. И лишь недавно я случайно узнал, что Владимир Лифшиц — отец Льва Владимировича Лосева.
У меня на полке есть «Петушков из Гребешкова» Ирины Кичановой и Владимира Лифшица, создавшего также образ людоведа и душелюба Евгения Сазонова и загадочного Джемса Клиффорда [Евгений Сазонов — вымышленный писатель, чей роман «Бурный поток» начал публиковаться в 1967 году в «Литературной газете». Его авторами были Владимир Лифшиц, Марк Розовский, Вадим Левин и др. Джемс Клиффорд — вымышленный английский поэт-фронтовик, которого придумал Владимир Лифшиц. — Прим. ред.]. Это было более или менее стандартное советское чтение, в позднейшем ретроспективном восприятии попадающее в один спектр с Михаилом Жванецким, пародистом Александром Ивановым, Ильфом и Петровым, с каноном технической интеллигенции, в противопоставлении, скажем, Цветаевой, Ахматовой, Булгакову. С другой стороны, обнаружилось, что этот спектр сложнее и шире, туда входят и приоткрытый «Радионяней» Хармс, и тот же «Смаршак», и другие детско-взрослые писатели, и границы между взрослым и детским, советским и не-советским не доходят до неба. И лишь недавно я случайно узнал, что Владимир Лифшиц — отец Льва Владимировича Лосева.
Вот реплика из пьесы Кичановой и Лифшица «Настя-Клоунастя», одного из текстов, повлиявших, как и Маламыш, на меня на уровне подкорки, человечески, читательски и творчески. В ней, как в некой капсуле, куча информации о европейских языках и культуре. «Шталмейстер: Уважаемые зрители! Вам предстоит интереснейшее зрелище: вы увидите настоящую испанскую корриду, по-нашему — бой быков!.. Выступает прославленный испанский тореадор, он же матадор, он же тореро по имени Соль-Перес-Горчица-Банко, Склянко, Авдотья-Мария-Умбрия-Скумбрия-Амальгама! Его имя с восторгом повторяют любители боя быков во всем мире. Вы, конечно, запомнили, как его зовут? Кто из вас может полностью повторить его имя?.. Ай-яй-яй, неужели никто? Прошу повторить за мной! (Повторяет имя тореадора вместе со зрителями)».
Вообще я любил пьесы, начиная с «Кошкиного дома», их было легко читать за отсутствием длинных описаний, они сплошь состояли из реплик, это было удобно, да и тогдашняя культура чтения «в лицах» была мне очень близка. Читал все пьесы Сергея Михалкова. Это воплощенный архетип классика, с его жанровым универсализмом, в каком-то смысле классицистический автор, неслучайно в том числе и баснописец. Тогда я не знал, что он написал гимн Советского Союза, это был скорее автор «Дяди Степы», «Праздника непослушания» и особенно детских пьес.
Зачитывался «Приключениями Калле Блюмквиста» Астрид Линдгрен. Интересный момент: как-то знал, что дети должны любить детективы, настоящих детективов мне никто не предлагал, а Калле или «Алик Деткин» Анатолия Алексина давали отсылку к жанру. Есть что-то общее, игровое и миметическое, в советском и детском чтении. Ты «играешь в читателя», производя всякого рода «импортозамещения»: детские книги вместо взрослых, доступная литература вместо сам- , там- и специздатов, Калле и Алик вместо детектива, Настя-Клоунастя вместо обэриутов, «Семь подземных королей» вместо Баума, Льюиса, Толкина, Скотта, Дюма, Гюго. «Приключения Васи Куролесова» вместо Аксенова, Бродского и Солженицына, «Четвертый позвонок» вместо битников, «Красная Пашечка» пародиста Александра Иванова вместо настоящих Трифонова, Распутина, Бондарева. Да, многих достойных авторов я узнал через этот сборник пародий, и на какое-то время мне хватило такого знания. При этом откуда-то бралась большая свобода «вдумывать» в книги что хочешь, сколько угодно. Пожалуй, такой тип чтения по-своему очень конструктивен и стимулирует желание писать самому.
Впрочем, раньше или позже были прочтены и настоящие взрослые книги, начало которым положили «Три мушкетера», хотя в любовных линиях я там ничего не понял, пришлось сорок лет спустя перечитывать. «Отверженных» прочитал в среднем школьном возрасте, поразила композиция, огромность. Сразу захотелось написать большой роман, и я начал писать. Один из героев был «Старик Лука». Меня не смущало, что такой герой уже был в литературе (где именно, я помнил смутно), я долго вообще не понимал, как устроено авторство, ведь это все была игра. Сочиняя «роман», столкнулся с тем, что ничего не знаю про жизнь, не понимаю, каким должно быть действие, характеры, конфликты. Ну поехали на дачу, ну завели собаку, кота, например, если напрячь воображение, можно придумать, что кто-то женился, у кого-то родился ребенок. Про смерть не хотелось, я не очень-то про нее и знал. Сравнивая свои сюжеты с «Отверженными», смутно чувствовал: что-то не то.
Такую же вкусную монументальность помню лишь у фантаста Александра Петровича Казанцева, чьи романы красиво делились на главы и части, складывались в циклы. Фантастику тоже детям полагалось любить, и я читал Казанцева, Александра Беляева. Многие книги брал в библиотеке, но все те, что давали за макулатуру, были дома, и в основном были прочитаны, но не все. Дрюон и Таис Афинская «не пошли».
Всегда нравился гротескный «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, особенно колоритные образы американца Гарри Вандендаллеса и его сподручного «мафиозо» (именно так, а не «мафиози», как потом стало нормой!) Чезаре Санторетти. Под стать им были и господа Скрягинс со Скуперфильдом в «Незнайке на Луне». Вообще нравились трикстеры. Я хотел быть похожим на Дуремара, а стал чем-то средним между Карабасом-Барабасом и Черепахой Тортилой, еще вот бороду побольше бы отрастить. Любил и «Тома Сойера», читал в двух переводах, стараясь понять, почему обиделась Бекки, когда Том сказал «когда мы с Эмми Лоренс…». Что тут обидного, ведь это было раньше. И почему обиделась Кнопочка, когда Незнайка сказал: «Просто ты, наверно, влюбилась в меня, вот и все»? В этой игре я на тот момент нашей истории плохо разбирался.
Помню пронзительно тревожных Аркадия Гайдара с его «Голубой чашкой» и Владислава Крапивина. Юрий Яковлев и Анатолий Алексин посвятили меня в поэтику реалистических конфликтов, морально подготовили к Достоевскому, который потом поразил умением выстраивать конфликты и саспенсы в практически бессобытийных повествованиях.
Из классики советского еврейско-интеллигентского детского чтения читал «Кондуит и Швамбранию», «Серебряный герб», «Республику Шкид», «Кортик», но так и не подвернулась основная из них — «Дорога уходит в даль». Ни в семье, ни в школе ее не предложили. Моими Сашеньками Яновскими были Васек Трубачев и его товарищи, Витя Малеев в школе и дома, Дениска и Мишка, Зина Стрешнева из «Старшей сестры». Эта повесть Любови Воронковой, дидактически антирелигиозная, читалась как своего рода анти-Чарская хрущевских лет, а ее же «Неистовый Хамза» послужил мне, наряду со стариком Хоттабычем, своего рода введением в «ориентализм».
Книги, в которых есть смерть, секс или война, приходили в мою жизнь постепенно. Секс я не различал и пропускал как непонятное, темы смерти боялся, начиная с «Пира во время чумы», но книги о Великой Отечественной войне оптимизмом и героикой перекрывали ужас. Такова была повесть «Отряд Трубачева сражается».

В младших классах прочитал серию романов-биографий о Джордано Бруно, Галилео Галилее и других: «Герои и мученики науки». Посвящая в советское мировоззрение, эти книги также давали ряд полезных исторических сведений, приучали ко взрослому чтению, обладая отдельными его чертами. Будучи обычно антирелигиозными, они содержали в себе сведения о христианстве в достаточном количестве, чтобы на том этапе удовлетворить «тоску по мировой культуре».
Из переводной детской и примкнувшей к ней фольклорной литературы помню молдавские и латышские сказки, читанные с высокой температурой летом 1974 в первом путешествии, в поезде в Москву, по дороге из Бельц, куда ездили к родственникам, когда не стало дедушки. В самих Бельцах встретился с книгами издательства «Картя Молдовеняскэ» на центральном рынке под вывеской «Пяца», где я выбрал Чапека, полистав его фантасмагорическую пьесу «Мать», мрачную политсатиру с образами привидений. Позднее к Фэт Фрумосу и какому-то Мачатыню добавился паучок Ананси с его волшебной калебасой из «Сказок народов Африки». А влияние четырех шведских повестей, объединенных в сборник «Бабушка на яблоне», и «Ордена Желтого Дятла» бразильца Монтейру Лобату явно еще не закончилось, какие-то волны еще впереди, особенно если учитывать, что сейчас волей судьбы я пою песни Тома Зе [бразильский сочинитель и исполнитель песен — прим. ред.] и учу португальский.
У соседей на даче прочитал «Патопсихологию» Блюмы Вульфовны Зейгарник и какую-то «Детскую психиатрию», позже попались статьи на эту тему в «Медицинской энциклопедии». Читая, почти лишился чувств, это был шок. Так же напугала и пленила книга о буржуазном искусстве, с черно-белыми репринтами Пикассо, Брака и других. Оказалось, в головах людей есть опасные миры, но есть относительно нейтральная территория, где они возможны: искусство.
«Кто сказал, что язык — это не страшно?»
Назову основные тексты, вызвавшие томление, оторопь и страх, а иногда и нервный смех, в связи с воплощенной в них трансгрессией. «История глаза» Батая в переводе Ивана Карабутенко, романы Стивена Кинга, «Шатуны» и «Вечный дом» Юрия Мамлеева, все книги издательства «Глагол», начиная с Евгения Харитонова, но не исключая и Хармса, «Венера в мехах», многое из треш-литературы 1990-х (например, детективный роман об импотенте и людоедах, названия и автора которого я не помню), даже кое-что у самого эксцентричного по фактуре, но и самого мирного по сути Владимира Сорокина. Конечно, у него это все про язык, но кто сказал, что язык — это не страшно?
Пугалом стал и первый в жизни верлибр: книжка стихов Леонида Черевичника «Зеркальная колыбель». Страшно было уже то, что стихи зачем-то не в рифму, зачем? Выходило, что какой-то псих. И темы, которые ребенок не пускает дальше границы сознания: «... страх: мама умрет, что же мы будем есть? Где опять-таки главное — есть, а не то что умрет его мама». Это то, что я понял, испугался и запомнил, хотя в книге было много вполне мирных и светлых стихов, я их не различил и не воспринял. После этого долго не доверял верлибру.
Но автор, которого я особенно в детстве боялся, был не авангардный, а вполне классический: Иван Андреевич Крылов. Страшило не содержание, а грамматика и образы слов, они как бы ощеривались на тебя, по причине архаики, так что я даже боялся ходить в темноте. «Видать случалось часто мне, // Как доступ не легок в высокие палаты; // Да только все собаки виноваты — Мироны ж сами в стороне». Пугали и «Мироны», без того редкое и непривычное имя собственное, а тут еще и в множественном числе, как будто бы некто двоится, троится в глазах, и странное ударение в слове «лёГОК» неумолимо требуемое вольным, но грозным ямбом. Что уж говорить о «Трумфе, или Подщипе, святочной трагедии». Сказано «трагедия», значит, надо бояться и плакать. Спустя годы понял, что это комедия, которую я с удовольствием поставил со школьниками в бытность учителем. Таков был глубоко родной, но страшный дедушка Иван Андреевич Крылов.
«Особенно меня поразил Рене Жирар в переводе Григория Дашевского»
Моя учительница литературы и классный руководитель Наталья Вадимовна Зуева разделяла мировоззрение шестидесятников: Сталин был плохой, Ленин хороший, у большевиков была «идейность», позднее утраченная и размытая в нецеломудренной, люмпенской, мелкобуржуазной испорченности. Это хорошо сочеталось с наследием дедушки, беспартийного спеца-попутчика, сочувствовавшего революции в части социальной справедливости и интернационализма. И это предвосхитило мое будущее увлечение Владимиром Короленко. Наталья Вадимовна передала дух советского нонконформизма, не доходящего до «диссидентства», рассказывая, скажем, о «Зеленой лампе». Предложила организовать литкружок и там читать свои произведения. В кружке обсуждали «Понедельник начинается в субботу», книга не увлекла, даже не дочитал, и она надолго отвратила меня от Стругацких. Она как бы не дотягивала до Ильфа и Петрова и «Вокруг смеха» в части одесского юмора, но и уникальной глубины классических Стругацких в ней было мало. Лишь недавно мне довелось прочитать подряд многие их романы, уже в призме Пелевина и странно сбывшихся пророчеств, уже глядя из этого века.
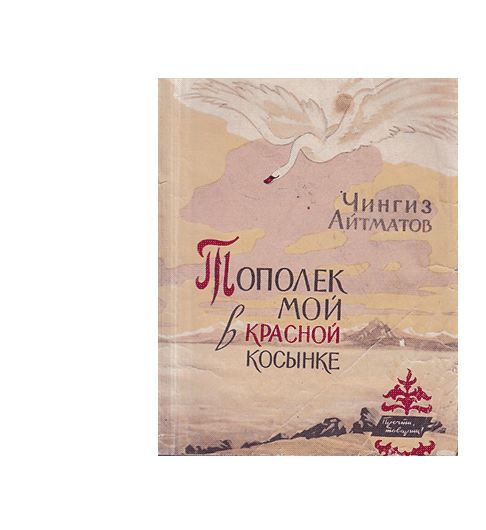 Через внеклассное чтение, от Натальи Вадимовны, пришли и Василь Быков, и Чингиз Айтматов. Позднее роман Фридриха Горенштейна «Псалом» показался мне еврейской «Плахой». Оба романа не выдерживали сравнения ни с «Джамилей» и «Топольком моим в красной косынке», ни с могучей пьесой Горенштейна «Бердичев».
Через внеклассное чтение, от Натальи Вадимовны, пришли и Василь Быков, и Чингиз Айтматов. Позднее роман Фридриха Горенштейна «Псалом» показался мне еврейской «Плахой». Оба романа не выдерживали сравнения ни с «Джамилей» и «Топольком моим в красной косынке», ни с могучей пьесой Горенштейна «Бердичев».
Под моим длиннющим сочинением о Владимире Маяковском, в которого я был влюблен, Наталья Вадимовна подписала: «бейся за филфак, там твое место». Шок от ранних стихов, поэм и трагедии Маяковского был почти такой же, как от патопсихологии и репринтов буржуазного искусства. Это вело к безумным мирам, производителей которых дедушка считал сумасшедшими, сам будучи любителем Стендаля, Бальзака, Флобера и французских песен, кроме слишком «фривольных». Авангард, модернизм и декаданс ему представлялись нездоровостью и безумием, как и Владимиру Короленко, ставшему потом моим литературным ангелом.
Поступлением в МГУ я обязан и моему замечательному ментору, Глебу Александровичу Анищенко, который меня готовил к экзамену. Никто сильнее не повлиял на мое письмо и связанный с ним ход мысли. Потом, когда я участвовал в написании учебника по литературе, некоторые его идеи привел без отсылки, полагая их, по тогдашнему недомыслию, не то своими, не то «традиционными”», о чем горько сожалею. Глеб Анищенко был также редактором отдела культуры в самиздатовском журнале «Выбор», где я уже на первом курсе прочитал тексты Оливье Клемана, о. Александра Меня, о. Димитрия Дудко и очерки «Путешествие в Брянск» Ольги Седаковой, именно тогда узнав это имя.
На филфаке МГУ конца 1980-х я испытал настоящий культурный шок: все было не то, чему учили в школе, новый язык накладывался на эпоху перестройки. Прочитал тонны книг неподражаемого Василия Розанова и Николая Бердяева, имя которого я еще вчера знал лишь из таблички сравнения его текстов с Солженицыным в книге Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР». «Страх и трепет» Кьеркегора и книга Льва Шестова «Киргегард и экзистенциальная философия» подсказывали, что надо не отчаиваться.
Одновременно в жизнь вошла и «третья литература». На концертах в ДК Зуева выступали подряд Дмитрий Александрович Пригов, Татьяна Щербина, Нина Искренко, Лев Рубинштейн, Игорь Иртеньев, Виктор Коркия, Александр Еременко. Столь разные, они казались единой когортой, а их поэзия звучала для незрелого ума как разновидность юмористики. Предстояло через это продраться, понять, что же это на самом деле. Хотелось найти книжки, где объяснялось бы сразу все, но таких не было. О главном умалчивалось, или говорилось непонятно. Разбираться пришлось самому: было ясно, что никакой Дон Хуан не поможет.
Под влиянием этих поэтов я сам писал стихи, в которых честно отразил свой когнитивный диссонанс: «Как же я счастлив, однако, // Что Горбачев Михаил // Новый роман Пастернака // Мне наконец подарил! // Пусть он порой не понятен, // Пусть и читать его в лом, // Все же мне множество „пятен” // „белых” откроется в нем!» Вскоре я понял, что мне лучше писать не стихи, а песенки, и это осознание в моей жизни стало решающим.
Мой университетский учитель, Николай Иванович Либан, объявил спецсеминар по Короленко, имея вкус к недоизученным именам и репутациям. Короленко занимался вопросами территорий, национальных меньшинств, этническими конфликтами, был антидекадент, антиэкстремист и антисноб, дружественный условно низким и гибридным жанрам типа рассказа-очерка. Он очень повлиял на меня в части фольклорно-этнографических, провинциальных, заграничных и еврейских мотивов.
Как позднесоветский читатель, я хорошо помню разницу между запрещенной книгой и книгой с двойственным статусом. Если в 1980-е у нас дома нельзя было представить себе «Остров Крым», Бродского или «глыбу» Солженицына, то однажды мама принесла мне с работы «почитать» Пастернака с предисловием Андрея Донатовича Синявского и сказала, что это «официальная» книга (что означало изданная в СССР), но лучше о ней «особо не распространяться», потому что Синявский уехал, а до этого сидел. О Пастернаке, Цветаевой, Мандельштаме говорилось, что это «не запрещенные» авторы, но они «не в фаворе». Если самиздатовский Высоцкий осенью 1980-го распространялся из рук в руки, то «Мастера и Маргариту» я читал в подшивке из журнала. Понравилась она мне лишь в части юмора. Был и классический опыт прочитать за ночь запрещенную книгу. Однажды в 1987 году мне достались на ночь в Питере сразу „Август 14-го» и «Зияющие высоты». Зиновьев понравился, а «Август» я плохо помню.
Поэтически в разные годы влияла детская, советская песня, оперетта, барды, особенно Новелла Матвеева, и, конечно, песни из фильмов, мультиков, спектаклей. Через песню произошло знакомство с идишем. Впервые услышал его от «Сестер Бэрри» на магнитофоне. Родители сказали, что это немецкий, но я заподозрил подвох. Мне, воспитанному на Шаинском, Дунаевском, Савельеве и Гладкове, эти песенки казались «еще более Шаинским, чем сам Шаинский», этим и цепляли, и идиш я бы выучил «только за то», что на нем пелись они. В конце 1980-х я взялся за идиш по как раз переизданному учебнику Сандлера, прочитал несколько коротких прозаических текстов, много песен и стихотворений. Систематически язык не учил, владею им на школьном и театральном уровне. Недавно играл Поццо в спектакле «В ожидании Годо» театра «Новый идишский репертуар», для этого читал и учил наизусть Беккета в современном переводе на идиш. Недавно мне подарили много книг на идише, надеюсь когда-нибудь прочитать их.
О прочитанном онлайн умышленно не говорю. Мы говорим скорее о книгах, а это не книги. Последние годы я чувствую себя интернетным существом, которому трудно сосредоточиться. Тебя окружает множество текстов, подобных звездам на небе: некоторые уже погасли, иные горят, но не там и не тогда. Виктор Пелевин хорошо пишет об этом.
В детстве я мечтал о книжке с постоянными и частыми продолжениями, которую ты сам читаешь и то ли сам пишешь, то ли она пишется сама, и книжка эта про тебя, и про все вокруг. Навязчивая фантазия, искушение, по сути регресс, но мечта сбылась, эта книжка есть на свете, и мы знаем, как она называется: фейсбук! Опасная ситуация.
Недавно одна знакомая рассказала мне, как сканировала всю свою библиотеку, кроме книг и так доступных онлайн, а чтобы не скучать в это время, слушала аудиокниги. Между тем в моем рассказе есть одно психологически обусловленное ограничение: я почти ничего не сказал о книгах, авторов которых знаю лично, среди них есть и близкие друзья. У меня немало таких книг, и жизненно, и творчески повлиявших на меня. Их я оставлю в качестве любимых вещей, даже если в остальном перейду на электронные носители.
Вот еще три книги, предложенные и прочитанные в правильный момент. По совпадению, я их все читал по-английски. Книга Ecstasies Карло Гинзбурга подтолкнула к головокружительным мыслям о первобытниках и их базовом сходстве с нами на уровне основных практик, о нашей с ними общей судьбе. The Power of Now Экхарта Толле поразила простой и мудрой мыслью о том, что из каждой ситуации есть хотя бы один из трех выходов: покинуть ее, изменить что-то или принять. Поэтому в сизифовом труде «тела боли» нет никакой необходимости. The Ethics Алена Бадью подтвердила догадки о том, что добро важнее зла, что все люди одинаковы, будучи бесконечно разными, и что верность есть поистине залог бессмертия.
Но особенно меня поразил Рене Жирар в переводе Григория Дашевского. Вот Чуковский писал об одомашнивании страшного у Короленко, а ведь вся культура в конечном счете говорит лишь о смерти, насилии, сексуальности и власти. По Жирару, она является заметанием следов коллективного преступления, доритуального насилия, убийства жертвы, посредством отрицания этого факта или нанизывания на него «высоких» контекстов. Как-то в библиотеке, увидев древние манускрипты, я ужаснулся, представив себе их авторов: не академики Лихачевы, не Умберты Эки, средневековые люди… По-моему, правильно, что нам в детстве литература явлена чем-то и прекрасным и страшным. Как у меня с Крыловым. Или с этим чумовым, простите за каламбур, «Пиром во время чумы», Гимном Чуме, и так далее. Впрочем, кто сказал что мы сами не страшные?
 Литература — это спектр, включающий цвета разных стихий, «тела боли», садомазохизма, экзальтации, болезненной сентиментальности, трансгрессии, суицида, безумия, непристойности, романтики с оккультным отсветом, всевозможного «обонятельного и осязательного отношения к крови», насилия, но и разума, любви, дружбы, благородства, благодарности, доверия, целомудрия, альтруизма и подвига за други своя, открытия. Этот мир не только не черно-белый, но даже сложнее, чем «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Кстати, символичная мнемоника. Ведь мирность Радуги и немирность Охотника суть два полюса одного спектра, которые в истории человечества медленно и незаметно сходятся!
Литература — это спектр, включающий цвета разных стихий, «тела боли», садомазохизма, экзальтации, болезненной сентиментальности, трансгрессии, суицида, безумия, непристойности, романтики с оккультным отсветом, всевозможного «обонятельного и осязательного отношения к крови», насилия, но и разума, любви, дружбы, благородства, благодарности, доверия, целомудрия, альтруизма и подвига за други своя, открытия. Этот мир не только не черно-белый, но даже сложнее, чем «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Кстати, символичная мнемоника. Ведь мирность Радуги и немирность Охотника суть два полюса одного спектра, которые в истории человечества медленно и незаметно сходятся!
Меня, и не одного меня, как я знаю, всегда волновал один из этих цветов, фиолетовый, имя которого во многих языках Европы является паронимом насилия, violet — violent. Все, что связано с этим, далеко не «фиолетово» мне. Литература — это спектр, где фиолетового больше или меньше. Иногда он мерцает, переливается с другими, и у Жирара есть прозрение, что в нашей эре, когда жертва на уровне религии впервые осознана как невинная, произошла хотя бы потенциально духовная революция. Часть культуры перестает быть «фиолетовой», и даже та, что была таковой, в призме открываемых нами новых цветов может быть отсюда увидена иначе. Поэтому стоит читать книги, старые в том числе, и поэтому стоит писать новые.