«Толкин — это всего лишь испорченный Ариосто»
Станислав Наранович беседует с Алексеем Любжиным
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению тем, затронутых в книжке, я хотел бы задать вам вопрос общего характера: иногда вас критикуют вплоть до обвинений в стремлении вернуть прошлое культуры, причем ваши критики считают это в лучшем случае неким чудачеством, а в худшем — едва ли не культурным преступлением. Как бы вы могли ответить на упрек такого рода?
— Начать следует вот с чего: разумеется, если я говорю, что не нужно читать новые книги (в том числе и мои), то я никому не собираюсь запрещать этого делать. Предмет же моей тоски в одном существенном изменении, произошедшем с культурой. Представьте себе венец эпохи Возрождения — Джорджоне и Тициана: они, например, никогда бы не стали обсуждать «Черный квадрат» Малевича, но не по идеологическим соображениям: он просто технически выпадает из всего того, что могут обсуждать художники. Когда-то так же обстояло дело и со словесностью. Есть определенные критерии, по которым определяется качество словесности, хотя они, наверное, не столь ярко выражены, как в случае живописи или музыки — писать словами все же проще, чем красками. Впрочем, греки всегда придерживались иной точки зрения: живописцев и скульпторов они считали ремесленниками, а писателей — настоящими мастерами. Как бы то ни было, сегодня исчез сам принцип большего или меньшего соответствия этим критериям, предполагавший прежде соревнование между литераторами. А теперь соревноваться не с кем, большая река разбилась на кучу ручейков — ты совершенно спокойно можешь быть чемпионом среди тех, кто пишет верлибром, или тех, кто пишет сонеты, хокку, что-то еще, и эти миры не обязаны пересекаться. Мне самому не очень нравится конкуренция, я не люблю бегать наперегонки и предпочитаю одиночество. Но вообще соревнование полезно для искусства, как конкуренция полезна для любой продуктивной деятельности. Вот от чего, на мой взгляд, слегка страдает современный мир.
— Мне в вашей книге особенно понравилось предисловие — в нем вы оспариваете представление о том, что литература отражает жизнь и участвует в общественно-политической борьбе. Чем оно вам претит?
— Я не то чтобы оспариваю его, скорее пытаюсь ограничить: литература — часть жизни, часть общественно-политической борьбы, и я был бы полным идиотом, если бы стал это отрицать. Однако, на мой взгляд, это просто не самая интересная сторона литературы. Из тех, кто интересуется литературой, только специалистам-историкам есть дело до борьбы ушедших эпох. Наиболее кричащий пример — «Георгики» Вергилия, написанные по заказу, даже по приказу Мецената, поэма, которая должна была сказать римским ветеранам: сидите на своей земле и не рыпайтесь, денег у Августа для вас нет и ничего, кроме ваших наделов, вам не дадут. Да, это пропагандистская поэма, но миф об Орфее и Эвридике можно читать и не зная этого, а претит такому прочтению, пожалуй, только некоторый филологический снобизм. Исследовать политическую борьбу прошлого довольно легко — это может быть убежищем для лентяев-филологов.
— Почему вы считаете изучение социального контекста литературы более легким занятием, чем какие-либо другие филологические изыскания?
— Написать полный комментарий, когда возникает множество вопросов из самых разных областей, очевидно сложнее. Ты не знаешь, куда тебя, прошу прощения, ткнет мордой автор в каждом следующем абзаце, и обычно это бывают самые разные вещи. Недавно я переводил и комментировал (эта работа пока не завершена, и я не знаю, издадут ли ее когда-нибудь) педагогический трактат Ле Вэйе, французского вольнодумца и философа-скептика, которого интереса ради хотели назначить воспитателем Людовика XIV, когда тот был еще дофином. Примерно 130 страниц текста, из них 30 — самая большая глава, посвященная астрологии. Я никогда в этом не разбирался, никогда даже не вникал, и был поражен, насколько математика тех времен была близка к астрологии, насколько актуальной была для Ле Вэйе задача борьбы с ней. Интересно это и с интеллектуальной точки зрения. Он больше всего не любил астрологию по философским соображениям (общие причины не могут иметь частных следствий) и прежде всего был любителем Аристотеля. С одной стороны, у него громадное число античных цитат, причем не самых банальных (его любимый писатель — Плиний Старший), а с другой стороны, есть цитаты и из современных ему изданий. Соответственно, чтобы всем этим заниматься, мне потребовалось несколько рабочих языков — французский, испанский, итальянский, португальский. Португальская книжка была только одна, но я посмотрел бы, как человек, который занимается исключительно социальным контекстом, справился бы с этим комментаторским заданием. Поэтому филология обязана рассматривать все стороны литературы, в том числе и литературу как феномен общественной жизни. Но я бы сформулировал одну оговорку: напиши, пожалуйста, диссертацию о Вергилии, а дальше можешь делать что угодно. Докажи свое трудолюбие и занимайся темами для лентяев.
 Миниатюра из рукописи Vergilius Romanus. V в. н. э.
Миниатюра из рукописи Vergilius Romanus. V в. н. э.
— В конце предисловия вы пишете, что, когда книга встречается с жизнью, лучше поостеречься, и приводите ряд замечательных примеров: скажем, Александр грезил «Илиадой», вознамерился достичь славы Ахиллеса, и ни для кого не секрет, что из этого вышло. Были ли в вашей жизни сравнимые по воздействию книги, которые определили ваше интеллектуальное развитие или, может быть, даже жизненный путь?
— Нет, слава Богу. Я человек достаточно грубый, с плохой чувствительностью, поэтому Ницше не смог довести меня до самоубийства, что иногда случается с натурами более тонкими. Но я увлекался им в студенческие годы. «Рождение трагедии из духа музыки» — первая крупная книга на немецком, которую я прочел.
— Наверняка были какие-то научные работы, которые повлияли на ваше развитие как ученого-филолога.
— Прежде всего это переведенная мной трехтомная «История римской литературы» Михаэля фон Альбрехта. За пять лет пребывания на филологическом факультете мне забыли объяснить, что такое филология, и я обладал самыми узкими и превратными представлениями об этом. А когда перевел фон Альбрехта, мне стала понятна совокупность вопросов, которую он обсуждает и которой должны заниматься филологи.
— Вы как-то отметили, что с трудом представляете себе хороший учебник по античной литературе, такое сложно написать, но фон Альбрехту все-таки удалось.
— Учебник и история — все-таки разные жанры. Я сам написал учебник по латинской литературе, но немного не доделал его. К сожалению, не осуществился параллельный проект по написанию учебника о греческой литературе, что отчасти обессмыслило и мою работу. На самом деле учебник по греческой литературе очень нужен — я примерно представляю, каким он должен быть, и, соответственно, понимаю, что сам я его никак не могу написать, и не очень понимаю, кто по совокупности обстоятельств мог бы (то есть и сумел бы, и нашел бы время). Скажем, в главе, посвященной Гомеру, должно быть совмещение самых простых вещей, буквально пересказа содержания, и самых сложных — описание переднего края современного гомероведения, гомеровский вопрос. Но есть ведь также и старая репутация Гомера: еще до Вольфа высказывались предположения о том, что его не существовало в виде некоторого единого персонажа. Если бы я попытался за это взяться, пришлось бы изучать кучу материалов по Гомеру или, скажем, по Эсхилу, поскольку с авторством «Прометея» тоже не все понятно, но это никак не входит в мои жизненные планы.
— А свою часть вы не планируете дописать?
— В принципе, это нетрудно, там осталось не так много работы. Над этим надо подумать, мне жалко, что рукопись лежит без дела.
— В статье «Почему современная литература так измельчала и что с этим делать» вы пишете, что современную словесность могла бы спасти от кризиса культурная реставрация. Предположим, что рано или поздно настанет более спокойное время, когда мы сможем подумать о такой возможности. Не могли бы вы в общих чертах охарактеризовать сущность этого кризиса и пояснить, что именно можно отреставрировать?
— Относительно кризиса — тут нужно прыгнуть в начало XIX века, когда этот кризис возник. Ужас заключается в том, что поколение, уничтожившее прежние эстетические установки, было безумно талантливым. Тот же Пушкин, тот же Байрон — какие люди, какие имена, какие произведения! Отказавшись от прежней системы критериев, они поставили себя в положение, когда уже нет ничего прочного. Обветшалый эпос погиб, на его место приходит стихотворный роман, но и он не может удержаться на плаву: в первой половине XIX века есть живые стихотворные романы, а потом уже нет. Точно так же, как нет и живого эпоса. На смену им приходит большой прозаический роман, но сейчас и он переживает кризис — очевидно, из-за того, что мы уже не помещики, у нас нет длинных тягучих вечеров, поэтому всунуть в нашу жизнь что-нибудь типа «Войны и мира» нам довольно сложно. Мне хотелось бы возвращения стихотворного эпоса. Роман, конечно, тоже ищет себя в разных направлениях, в частности пытается в виде Толкина заместить прежний эпос, но я-то знаю, что Толкин — это всего лишь испорченный Ариосто и что «кольцо всевластия» у Ариосто уже было. Точнее, не кольцо, другой артефакт, но это не принципиально.
— А Толкин действительно читал Ариосто? Обычно говорят о других источниках его вдохновения.
— Не знаю. В конце концов, он мог испортить Ариосто, не читая его, это не так уж и сложно. Вспоминается один небольшой анекдот, извлеченный из «Эссе о репутации книг» Жозефа де Местра. Вольтер спрашивает у Поупа: «Почему Мильтон не написал свой эпос в рифму?» А Поуп отвечает: «Потому что не сумел».
Два великих итальянских эпика, Тассо и Ариосто, связаны с Феррарой. Я, кстати, когда-то там побывал. Мандельштам врал о ней безбожно: «Феррара черствая» — никакая она не черствая, очень милый городок, абсолютно сонный. Причем если греческая колонна — это мраморная колбаска, и, когда землетрясение разрушает, скажем, храм Зевса в Олимпии, колонны падают и лежат на земле как порезанная колбаска, то у римлян совсем по-другому: у них колонна — это кирпич, облицованный мрамором. Так вот, Феррара — это кирпич, который мрамором не облицевали, денег не хватило. Стоит город, весь готовый под эту облицовку, с голыми кирпичными стенами, только кое-где видны полосочки белого камня. Маленький сонный городишко, и именно в нем в XVI веке жили два величайших европейских эпика — Ариосто и Тассо. Никак не могу себе объяснить, как это вышло, но зато феррарские воспоминания всегда приятно бередить.
Относительно Ариосто и Тассо нельзя задать вопроса, ответом на который будет «потому что не сумел». Для современного образованного итальянца Ариосто, пожалуй, обязательное чтение, Тассо — нет. Томмазо Борри, один из несравненных знатоков итальянского языка, сказал как-то, что Ариосто — это душа Италии. Именно он, а не Данте и не Петрарка. Чтобы познакомиться с Италией, ничего лучше вы не найдете. Он писал безумно техничной октавой — я достаточно опытный стихотворный переводчик, но здесь чувствую, что даже близко ничего не смог бы сделать.
Возвращаясь к тому месту, где я ушел не в ту сторону, должен сказать, что мне бы хотелось менее тягучих, менее помещичьих жанров новой литературы, как-то соответствующих ритму нашей жизни. Я предпочел бы сборники афоризмов — вот Розанов с жанровой точки зрения был идеальным автором нашего времени.
— Вы думаете, введение подобных жанров способствовало бы возрождению изящной словесности?
— Мы вслед за Фаддеем Зелинским говорим: античность не норма, а семя. Если бы мы просто писали короче и давали больший простор мысли — это тоже было бы с определенной стороны возрождением античной традиции, поскольку, как мы знаем, фикшн, роман — это жанр, который даже названия не имеет в древних языках. Тогда была философская, ораторская проза, история... и я очень хотел бы, чтобы и сейчас процветали эти жанры, возможно, в виде больших трактатов или диалогов, как у Платона и Аристотеля, или в виде такого словесного бодибилдерства, как у Сенеки Младшего.
— А вы уверены, что сегодня словесность пребывает в кризисе? Есть какие-то авторы популярные, романистика будто бы процветает на Западе, люди все это читают. Может быть, все не так плохо?
— Возможно, я ведь человек с очень извращенным сознанием: способность читать эпос я приобрел за счет потери способности читать романы. Единственный роман, который я прочел лет за двадцать, — это «Белое сердце» Хавьера Мариаса. Мне его дала для лингвистических целей моя учительница испанского языка, и я его прочел, мне он даже понравился. Отчасти это была благодарность ученика: часто повторяющиеся слова, благодаря чему запоминаешь их без зубрежки, зеркальная композиция — в конце в отраженном виде всякие начальные фрагменты проявляются. Она мне дала несколько испанских романов, и второй я уже не вспомню, на третьей странице застрял абсолютно безнадежно. Мне самому был непонятен этот эффект, я не должен был обрадоваться роману, но, когда я стал заниматься современной русской художественной прозой, понял: она меня раздражает тем, что знает, что она художественная проза, и всячески это демонстрирует. А я хочу какой-то мысли, какого-то интеллектуального содержания. У Пушкина была знаменитая реплика о том, что проза требует мыслей и мыслей. Я с ним согласен.
— А кого-нибудь из наших современных авторов-небеллетристов вы выделяете?
— Я возьму не очень современных. Мне чрезвычайно нравится эссеистика Георгия Федотова, которая, кстати, на меня повлияла. У него такой визионерский стиль, без ссылок, довольно медленный, но за ним явно стоит интеллектуальный опыт, который чувствуется, дает тебе свою энергетику даже тогда, когда ты совсем с ним не согласен. Не как художественного прозаика я люблю Марка Алданова, в том числе и романы, но его романы как раз тем и хороши, что у них нет претензий на глубины — все герои более-менее одинаковые: умные, усталые, ходульные. Но они ведут интересные разговоры и высказывают интересные мысли.
— В чем, на ваш взгляд, заключалась сила критического таланта Алексея Мерзлякова?
— Наверное, в пресловутой комбинации сердца и системы. Человеком он был, скажем так, не самым тонким... Впрочем, «тонкий» — сомнительный комплимент. «Льстецы героя моего, не зная, как хвалить его, провозгласить решились тонким...» Разночинская закваска в нем была, это очевидно, он не из дворян, как Михаил Никитич Муравьев или Евгений Баратынский. Довольно серьезно это сказывалось на тех вещах, где он не особо мог собой управлять. Скажем, те же самые стихотворные переводы — он и «Освобожденный Иерусалим» переводил совершенно несносным александрийским стихом, после виртуозного Хераскова это особенно чувствуется. Однако его способность передавать некоторые формальные критерии и некоторый опыт прежней эпохи в сочетании с сердцем — меня это очень трогает.
— В свою очередь, Виссариону Белинскому вы посвятили довольно гневную филиппику. Чем именно он заслужил вашу нелюбовь?
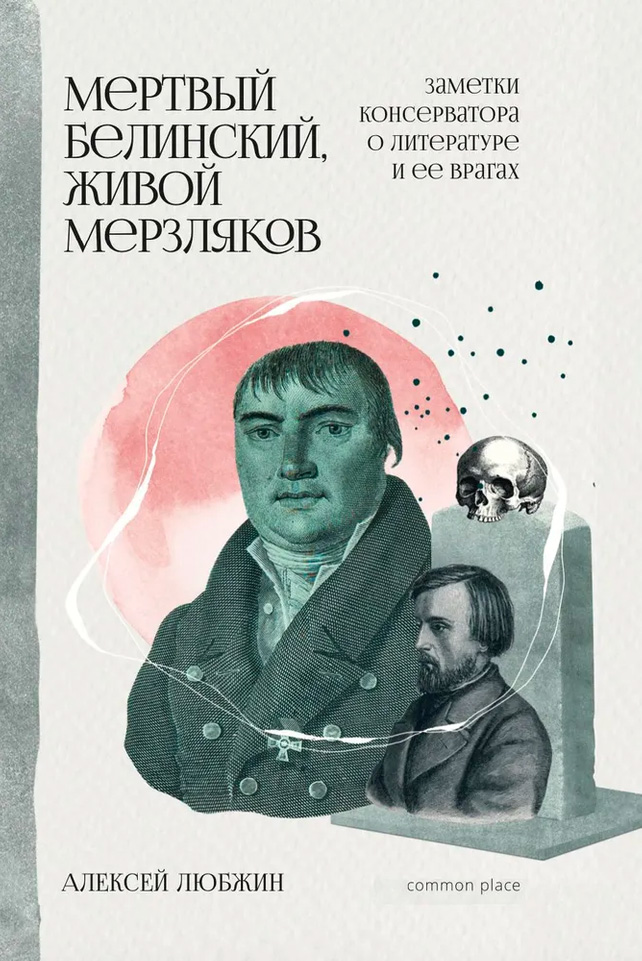 — Отчасти она и сочувственная: все-таки человек пару дней не дожил до своего 37-летия. И Андре Шенье, один из моих любимых поэтов, до 32 лет чуть-чуть не дожил. Я всегда пытаюсь это примерить на себя, вспомнить, каким я был в таком возрасте. В этом есть определенное утешение: чего стоит моя собственная жизнь, если гораздо более достойные люди, как тот же Шенье, прожили настолько меньше? У Белинского были два приговора на выбор: если бы он жил не в Петербурге, то умер бы от голода, поскольку не нашел бы работы. А выбрав жизнь в Петербурге, он был обречен умереть от болезни легких. Человеку, который так волновался, что во время разговоров кашлял кровью, я сочувствую. Но я не сочувствую ему как критику. Скажем, именно с подачи Белинского у нас до сих пор существуют схемы непонимания Гоголя — конечно, кое-что удалось расчистить символистам, оценки его творчества во многом были пересмотрены, но они остались прежними на официальном уровне и сохранились в виде школьных программ. Мне бы хотелось, чтобы наши школьные программы были более адекватными и уходили от этих схем.
— Отчасти она и сочувственная: все-таки человек пару дней не дожил до своего 37-летия. И Андре Шенье, один из моих любимых поэтов, до 32 лет чуть-чуть не дожил. Я всегда пытаюсь это примерить на себя, вспомнить, каким я был в таком возрасте. В этом есть определенное утешение: чего стоит моя собственная жизнь, если гораздо более достойные люди, как тот же Шенье, прожили настолько меньше? У Белинского были два приговора на выбор: если бы он жил не в Петербурге, то умер бы от голода, поскольку не нашел бы работы. А выбрав жизнь в Петербурге, он был обречен умереть от болезни легких. Человеку, который так волновался, что во время разговоров кашлял кровью, я сочувствую. Но я не сочувствую ему как критику. Скажем, именно с подачи Белинского у нас до сих пор существуют схемы непонимания Гоголя — конечно, кое-что удалось расчистить символистам, оценки его творчества во многом были пересмотрены, но они остались прежними на официальном уровне и сохранились в виде школьных программ. Мне бы хотелось, чтобы наши школьные программы были более адекватными и уходили от этих схем.
Если уж говорить о консерватизме, то сам я — абсолютно не враг прогресса. Как любил говорить Гаспаров: вот вы примеряете на себя ту или иную ушедшую эпоху, но ведь в те времена вас бы просто не было. Меня бы не было точно — полостная операция, которую мне сделали в самом раннем детстве, была невозможна до изобретения анестезии, поэтому у меня не было бы никаких шансов выжить. На мой взгляд, есть честная прогрессистская позиция и есть нечестная. Честная заключается в том, что мы находимся в некоторой точке на идущей вверх линии. Есть то, что ниже этой точки, и мы это знаем, есть то, что выше нее, но этого мы не знаем. Если ты действительно прогрессист, то на каком основании ты считаешь, что находишься в высшей точке и дальше вверх эта линия не пойдет? Ни на каком. Но с какой тогда стати ты нигилистически относишься к прошлому? Белинский относился к прошлому нигилистически: были какие-то люди, что-то писали, жили какой-то интеллектуальной жизнью, но все это выбрасывается в помойку. Как тогда на тебя должны смотреть те, кто находится на той же линии выше? Заслужил ли ты сочувствие с их стороны? Честный прогрессист должен уметь видеть чужие заслуги: допустим, кто-то в чем-то, с нашей точки зрения, ошибался раньше — Кеплер, например, составлял гороскопы, чем современный астроном заниматься не стал бы, — но ведь у него вполне могут быть и какие-то заслуги.
Будучи нигилистом в отношении к прошлому, Белинский, на мой взгляд, заслуживает такого же нигилистического отношения к себе со стороны потомков. Заслуживает он и сочувствия — как человек, который на свой манер стремился к благу и очень при этом страдал, но не как мыслитель, у которого не хватило интеллектуальной честности на тот несложный мыслительный ход, который я только что обрисовал.
— Меня всегда умиляло то, что в Петербурге на «Литераторских мостках» Белинский похоронен с Добролюбовым совсем рядышком, их могилы обнесены одной изгородью. Вы случайно не знаете, как так вышло?
— Я был там когда-то, но ничего об этом не знаю.
— Несколько глав книги посвящено библиотекам, как чужим, так и вашей собственной. Расскажите немного о ней: сколько у вас сейчас наименований, какие книги самые старые?
— Наименований немного. Я постепенно раздаривал современную часть унаследованной мной библиотеки различного рода научным институциям, отдавал те книги, к которым уже не надеялся обратиться. Так что сейчас, думаю, у меня где-то порядка 2000 книг. Конечно, я сохранил некоторые издания вроде собрания сочинений Пушкина. Относительно антиквариата — у меня есть действительно занимательные вещи, скажем, первое издание «Истории Испании» Хуана де Марианы, мощный толедский том конца XVI века. У него современный переплет, но вполне прилично стилизованный. Эта книга подходит для человекоубийства, ею можно взять и прихлопнуть.
— Вы покупаете такое для чтения или скорее для любования?
— Покупаю для чего-нибудь. Обычно становится жалко трепать, поэтому я приобретаю, но читаю пдф-скан. Вообще я очень люблю привозить разного рода сувениры из городов, которые посещаю, хотя сейчас уже ездить особо не приходится. У меня есть привезенное из Севильи описание дворца Сан-Тельмо, его наличие зафиксировано всего в двух библиотеках. Не знаю, сколько экземпляров сохранилось, поскольку чужие частные коллекции недоступны, но эта книга явно не очень часто встречается. Собираю издания, связанные с историей школы. Люблю эпосы, отдельно коллекционирую издания Фенелона, причем даже не французские, в основном переводы: у меня есть латинский, итальянский в октавах, голландский и немецкое учебное издание без перевода. Либо эпосы, либо школы, либо сувениры, связанные с местами пребывания. В Туре я купил — здесь совпало место покупки и место, которому он посвящен, — небольшой сборник гравюр с изображениями городов долины Луары. Думаю, что больше на рынке этого замечательного издания нет. Если книги обычно сохраняются в более-менее правильном виде, то сборники гравюр часто расходятся по частям. Еще Хераскова своего любимого я коллекционирую, у меня есть все три издания «Россиады».
— Продвигается ли как-то дело с академическим изданием «Россиады», которое вы готовили много лет?
— Я махнул на это дело рукой, безнадежно.
— Почему?
— Для сверки аппарата, который должен иметь очень ограниченное число опечаток, нужно, чтобы взгляд был свежим. Когда читаешь много, глаз замыливается. Соответственно, на триста страниц проще найти триста людей, которые посмотрят каждый по странице и не успеют устать, сохранят внимание, чем поручать одному или даже нескольким. Это большой объем работы, и высока вероятность, что что-то будет пропущено.
— В замечательном тексте про европейский литературный эпос и про Вергилия вы говорите, что на протяжении многих веков поэты пытались создавать эпические произведения, поскольку литература без настоящего эпоса чувствовала свою неполноценность. Возможно ли возвращение эпического жанра сегодня или в будущем? Или теперь литература будет чувствовать себя полноценной без него?
— Возьмем близкий пример — былинный стих. Он используется только для одного дела: школьники сперва проходят былины, а потом пишут пародийные былины о своем школьном быте. Больше он ни для чего, кажется, не используется. Эпос — абсолютно мертвый жанр. Даже если бы я сам попытался что-то такое написать, в этом была бы глубокая ирония пародийного толка. Нам придется обходиться без эпоса и, думаю, вообще без крупных поэтических жанров. Как человек, который сам иногда пишет стихи, я для себя пришел к такому выводу: их необязательно дописывать. Если получилась одна более-менее удачная строфа, не надо добавлять к ней две полуудачных и три неудачных, лучше оставить все как есть.
— За что вы в первую очередь цените классическое литературное наследие?
— Отвечу на этот вопрос словами Иннокентия Анненского: «Но я люблю стихи, и чувства нет святей. Так любит только мать, и лишь больных детей».