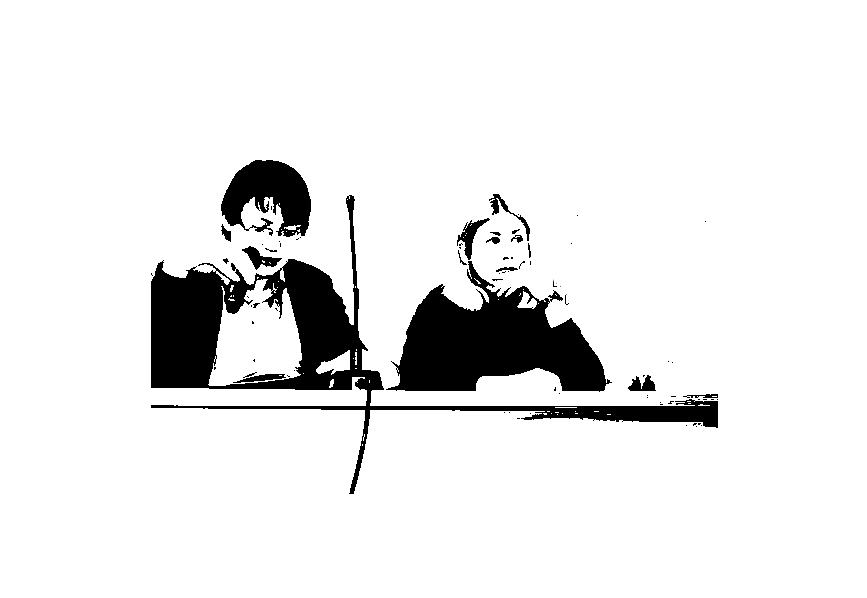Спекулятивного реализма не существует
Интервью с редакторами издательства HylePress Дмитрием Вяткиным и Яной Цырлиной
Иван Мартов: Ваше издательство существует не первый год, вы не раз рассказывали о том, как оно стартовало, а как обстоят дела сейчас?
Дмитрий Вяткин: Сейчас мы издаем то, над чем шла работа весь прошлый год, это сравнительно большой корпус работ — по крайней мере, если исходить из размеров нашего издательства. В начале 2017 года был составлен план по книгам, которые мы хотим выпустить. План был подкреплен либо приобретением прав у издательств, либо непосредственными договоренностями с авторами, и теперь он реализуется. Не готов пока сказать, насколько успешно мы идем к его выполнению, но в целом наша задача — выпустить в этом году двенадцать-четырнадцать книг.
ИМ: А как вы справляетесь с таким потоком: кто переводит, редактирует, верстает?
ДВ: Частично мы переводили сами или подключали ближний круг, друзей и знакомых, но это было в самом начале работы издательства. Редактура тоже полностью оставалась за нами. Где-то год назад такая ситуация стала невозможной — существенно увеличилось количество книг, над которыми нужно работать, поэтому круг переводчиков расширился, плюс научная редактура некоторых книг стала выполняться не нами. В большинстве своем это либо московские, либо пермские переводчики и редакторы — выпускники и аспиранты философских факультетов. Таким образом мы с Яной оставили за собой бо́льшую часть редактуры, научной и обычной, а также корректуру, верстку и дизайн. То, что условно можно отнести к административной деятельности или к иным проявлениям жизни издательства (например, ведение пабликов), тоже за нами.
ИМ: А в концептуальном плане у вас что-то меняется, или с тех пор, как вы задали несколько тематических линеек, вы их и придерживаетесь?
Яна Цырлина: Никаких линеек по сути и не было, но это выяснилось лишь впоследствии. Был схематический набросок, некая попытка «примириться» с реальностью, который, в общем, не требовал обязательного исполнения. На самом деле очень многое (это будет видно по следующим книгам) вошло в нашу издательскую практику со стороны: просто поступали интересные предложения, на которые мы соглашались. Так что жесткого схематизма у нас не было, и нам бы не хотелось ассоциироваться исключительно с так называемым спекулятивным реализмом.
ИМ: HylePress с самого начала воспринималось как проводник идей спекулятивного реализма — значит, это направление нельзя назвать ядром вашего издательства?
ДВ: Одна из наших издательских задач как раз проблематизация такого ядра, прояснение механизмов, производящих эту «спекулятивно-реалистическую» ситуацию. Здесь важно избежать гипостазирования термина «спекулятивный реализм» (СР). Например, в России (но не только) подобное случилось с термином «постмодернизм», который из обозначения того, что следует объяснять, превратился преимущественно в то, что само по себе обладает объяснительной силой, и теперь достаточно подпадания какой-либо философии в рубрику «постмодернистская», чтобы сформировать к ней предвзятое отношение (не важно, положительное или отрицательное). Поэтому хотелось бы избежать повторения этой истории с СР. Особенно учитывая, что это всего лишь ad hoc термин, предложенный Рэем Брасье в качестве названия конференции 2007 года в Голдсмитском колледже, в которой также приняли участие Иан Гамильтон Грант, Грэм Харман и Квентин Мейясу. У СР вряд ли есть реальный референт: ни попытка рассуждать о реальности за пределами нашего доступа к ней, ни симпатии к ее темным сторонам (например, увлеченность Лавкрафтом и космическим пессимизмом, акцент на смерти и разложении) не являются оригинальными характеристиками круга СР. Кроме того, следует учесть, насколько разнородны эти философы, их последователи, предшественники и попутчики во взглядах на устройство реальности. Примечательно, что сам термин как раз такое выражение-рамка для совмещения несовместимых позиций, в частности реалистического антиматериализма Хармана и спекулятивного материализма Мейясу. Еще более примечательно, что Брасье, предложивший этот термин, позже его и дезавуировал. Поэтому я бы рискнул сравнить СР со вспышкой, которая на мгновение освещает затемненный ландшафт и тут же растворяется в его черноте: предметы, которые до этого воспринимались лишь на ощупь или не воспринимались вовсе, теперь опознаются как части какой-то более общей картины. Теперь мы можем сказать: а, вот так оно все и было, кто бы сомневался! Выражаясь иначе, СР ретроактивно актуализировал множество событий, процессов и практик, связанных с трансформацией поля гуманитарных наук, начатых еще в 1980-х и приведших к тому, что в 2000-х образовался некий бульон из всевозможных анти- , пост- , мета- и даже ингуманизмов, пересекающих целое множество дисциплин: социальных, антропологических, экологических и так далее. Точнее, только СР и позволил сказать, что имела место трансформация, началась она тогда-то и привела к тому-то. Более того, описывая эту трансформацию в самым общих чертах, теперь мы можем сказать, что произошла конвергенция континентальной и англо-американской философии, складывание некой постконтинентальной философии, существующей поверх общепризнанных границ, пересборка философского архива, извлечение из него новых материй, энергий и фигур, образование неожиданных, зачастую незаконнорожденных связей и союзов, в рамках которых дистанция и различие между позициями имеют куда большее значение и ценность для успешности союза, чем близость и сходство. Короче говоря, все произошло так, как если бы «Капитализм и шизофрения» Делеза и Гваттари стал повседневной практикой современного гуманитарного знания, и акторы, производящие знание, осознали себя и начали действовать в терминах этой книги (впрочем, пока лучше это «как если бы» закавычить).
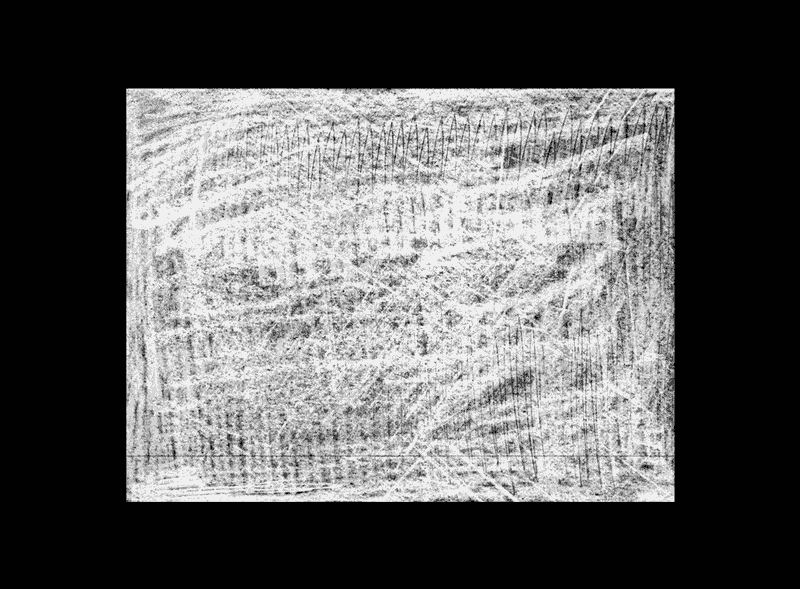
ИМ: Попробую кратко переформулировать: Делез, Гваттари и некоторые другие теоретики придумали систему, где все перетекает во все, где нет устойчивых идентичностей, и эта в общем утопическая теория должна была нас как-то эмансипировать, придать нашим мыслям новый импульс, но в результате мы получили какую-то кашу, неустойчивое в материальном и идейном плане существование, в котором ничто ничего не значит, интеллектуальная жизнь беднеет и так далее, а спекулятивный реализм своего рода попытка осмыслить эту ситуацию?
ДВ: То, что ты сейчас описал, частично соответствует коннективному синтезу у Делеза и Гваттари в «Анти-Эдипе». Этот синтез как раз предполагает картину реальности, в которой материальные потоки совершенно беспрепятственно срезаются и перетекают друг в друга, — любые, даже наиболее причудливые соединения здесь не просто возможны, а фактически осуществлены. Но Делез и Гваттари сразу проблематизировали такое положение вещей, добавив еще два синтеза, действующих наряду с коннективным: дизъюнктивный и конъюнктивный. Первый, очень сильно упрощая, через установление дистанций между сериями сущностей способствует тому, что эти расходящиеся серии производят друг относительно друга свою собственную определенность, но производят ее таким образом, что в итоге определение выдается за первопричину определяемого. Второй же производит субъекта как децентрированный остаток самого производства. Так что устойчивые и фиксированные сущности никуда не исчезают — просто они теперь понимаются как продукт производства и распределения материй и значений, ложным движением самой реальности выдаваемый за нечто изначальное. Именно такая комплексная ситуация, а не просто состояние хаоса, воплощается как в практиках, так и в теориях той части поля современного гуманитарного знания, которая нас интересует. Значение имеет не только беспредельная «текучесть», но и то, как происходит стабилизация сущностей. Приведу примеры. Концепт частичной связности Аннмари Мол возник из того, что в разных местах больницы, которую Мол исследовала как этнограф, одно и то же заболевание протекало по-разному, но не настолько по-разному, чтобы говорить о нескольких заболеваниях. Поэтому заболевание — такой объект, который «больше, чем один, но меньше, чем много», а частичная связность позволяет проследить, как различные версии — например, атеросклероза — удерживаются вместе. Или возьмем термин Карен Барад «интраакция», который (в противоположность интеракции, то есть взаимодействию двух сформированных сущностей) показывает, как сущности, члены отношения, фактически не существуя до самого отношения, рождаются и получают определенность внутри такого отношения-феномена, как бы раскалывая его изначальную онтологическую неразличенность на две части, два компонента — на субъект и объект, или на наблюдателя и наблюдаемое. Или, скажем, распределенная агентность Джейн Беннет предполагает, что активность распределяется среди человеческих и не-человеческих элементов ассамбляжей. Все это разные концепты, выстроенные на специфическом эмпирическом материале из различных областей — медицины, квантовой физики, экологии. Но делает эти концепты структурно подобными именно то, что каждый из них так или иначе может быть соотнесен с работой дизъюнктивного синтеза.
ЯЦ: Точно так же в СР, но на метафизически более рафинированном, уже очищенном от эмпирии уровне, вводятся концепты, устроенные подобным образом. Например, гиперхаос у Мейясу является своего рода метасостоянием по отношению к хаосу и порядку, то есть это настолько предельный хаос, что он грозит разрушить не только порядок хаосом, но и сам хаос порядком. Или замещающая причинность у Хармана отвечает на вопрос, каким образом два полностью изолированных друг от друга объекта все же могут установить отношения, чтобы произвести новый объект, который при этом будет их охватывать и составными частями которого они сами станут.
ИМ: А какие вообще тенденции можно выделить в работах авторов этого круга — антиконструктивизм, антиантропоцентризм?
ДВ: Мне кажется, стоит говорить не столько об антиконструктивизме, сколько об изменении угла зрения на сам конструктивизм.
ЯЦ: Конструктивизм до недавнего времени был по сути доминирующей парадигмой социологического знания, черпавшей свои эпистемологические основания из неокантианства и феноменологии первой трети XX века. Но что происходит при появлении, например, исследований науки и технологии, а в их рамках и акторно-сетевой теории? Конструктивизм, движущийся от субъекта к миру и замыкающий их в круге взаимного порождения, когда мир неотделим от социальных значений и феноменов, произведенных субъектом, а субъект конституируется опытом мира, который уже всегда социален, оказывается недостаточен с точки зрения эмпирического материала этих новых дисциплин. Сложно рассуждать о каком-нибудь химическом веществе, являющимся самостоятельным актором в лаборатории наряду с учеными, которое сопротивляется им и которое они вынуждены стабилизировать в серии экспериментов и, наконец, успешный синтез которого может привести к серьезному переустройству реальности. Поэтому конструктивизм должен быть пересобран на более широких основаниях. Конструирование должно стать движением самого мира, первичным относительно человеческих и не-человеческих акторов, но для этого мир должен получить свою исконную долю социальности и субъектности, частным случаем которых оказывается человеческая социальность и субъектность. Хотя в исследованиях науки и технологии речь идет скорее об определенной методологии, об особом подходе к эмпирическому материалу, чем об онтологии, но у этого, безусловно, есть свои онтологические предпосылки. Например, у весьма ценимого Латуром Уайтхеда субъект замещается суперъектом. Грубо говоря, не «я чувствую», а то, что чувствуется, само чувствование (а чувствование у Уайтхеда — это универсальный, космический процесс) производит меня как остаток от процесса чувствования, своего рода накипь. И такой остаточный субъект называется у него «суперъект». В таком качестве может выступать что угодно: Сократ, камень, микроб и электрон — суперъекты. Главное, что все они возникают из и поверх чувствований, или, как сказал бы Латур, испытаний сил. Например, кристалл оседает в растворе в результате понижения температуры и перенасыщения. Оба этих процесса были бы для Уайтхеда чувствованиями, поверх которых выделяется кристалл-суперъект. И это очень похоже на то, о чем через сорок с лишним лет после Уайтхеда напишут Делез и Гваттари, предложив понятие конъюнктивного синтеза, производящего децентрированного субъекта, о чем уже упомянул Дима.
ИМ: Хорошо, а почему с антропоцентризмом и гуманизмом философы никак не угомонятся? Казалось бы, в прошлом веке на эту тему уже было поломано столько копий, а сейчас молодежь продолжает эту тему разрабатывать, с чем это связано?
ДВ: Попробую подойти к вопросу с противоположной стороны. Проблема заключается не столько в антропоцентризме, сколько в самом его отрицании. В способах и механизмах этого отрицания. Или, лучше сказать, избегания. Важно, что и почему должно быть деантропоцентрировано в настоящий момент. И та или иная форма анти- , пост- и так далее антропоцентризма также может стать предметом отрицания или пересборки, так как может обнаружиться, что в каком-то отношении она все еще «слишком человеческая». Поэтому прежде всего нужно прояснить механизмы этой деантропоцентрации и ее ставки. И если до этого я описывал ситуацию «как если бы» победившего делезианства, то сейчас есть смысл спросить об ограничениях, встроенных в саму эту ситуацию. Могут ли ставки постгуманизма быть полностью реализованы при текущей постановке вопросов? Нет ли разницы между тем, как эта ситуация воспринимается ее участниками, и тем, как все работает на самом деле, — разницы между теорией и теоретической практикой, если выражаться словами Альтюссера? И не нуждаемся ли мы для адекватного описания ситуации в своего рода теории теоретической практики? У нас есть серия «экспериментальный материализм», авторы которой пытаются ответить на эти вопросы. Так, Йоэль Регев в изданной нами книге «Невозможное и совпадение» много рассуждает об этом. Или возьмем готовящуюся сейчас к изданию книгу Александра Ветушинского, которая будет посвящена исследованию материи и материализма. В ней, в частности, говорится, что динамика современного этапа материализма, характеризуемого автором как антиобскурантистский, определялась последовательным отрицанием антропоцентризма (мы — привилегированные существа во Вселенной), геоцентризма (Земля — наш дом) и теоцентризма (есть некое основание всего). Здесь интересно направление движения. Человек все-таки, вопреки тому, что, например, утверждал Фейербах, выводя образ Бога из образа человеческих существ, «создан» именно по образу и подобию Бога как некоего основания. Поэтому только устранение, или, лучше сказать, материалистическая «перепрошивка» теологического, в том числе микротеологического, обнаруживаемого в сфере привычек, суеверий и обсессивно-компульсивных расстройств, может привести к избавлению от антропоцентризма. Ницше это проговаривал, а современный материализм пытается реализовать.
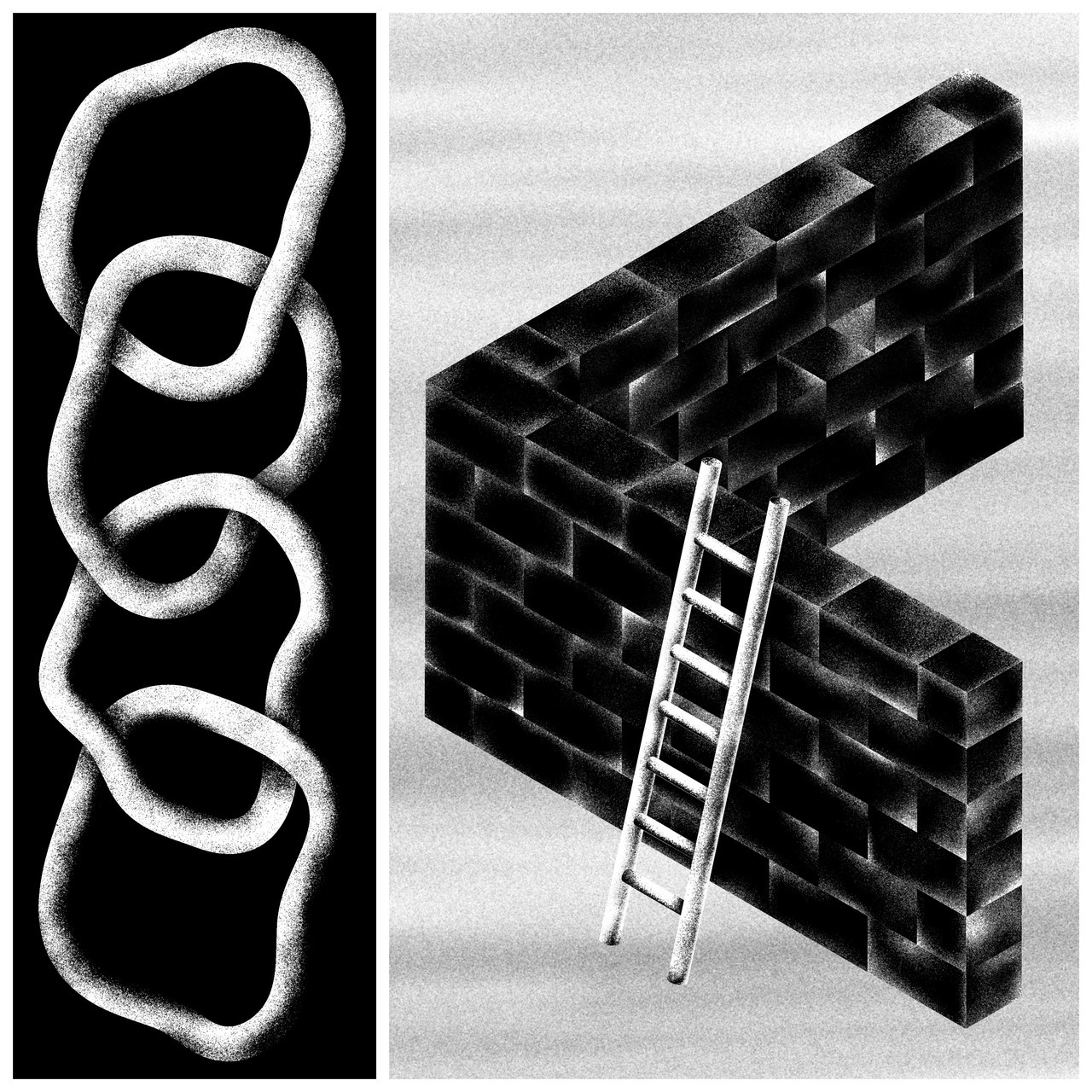
ИМ: То есть смысл в том, что на антигуманистическом топливе XX века еще далеко можно уехать? Собирать, потом пересобирать — и так до бесконечности?
ДВ: Да, пожалуй, никто не отказывается от антигуманистического топлива. Просто это уже слишком грубая фракция, которая неизбежно содержит в себе признаки «слишком человеческого». Поэтому часть топлива должна расходоваться, чтобы полученной энергии хватало на очищение другой ее части от примесей «человеческого». И так далее. Но рано или поздно придется остановиться, чтобы посмотреть, куда мы все же приехали, что за ландшафт нас теперь окружает.
ИМ: Вообще, лично мне следить за новыми направлениями мысли все сложнее. Например, я пока так и не понял, что такое акселерационизм, а он наверняка скоро уже устареет и уступит место чему-то другому. Я хорошо понимаю людей 1960-х, которые следили за гуманитарными новинками, покупали и обсуждали новые книжки Фуко и Делеза, жили в одном ритме с ними. С одной стороны, то, что появляется сегодня, кажется гораздо более локальным, частным — во всяком случае, не видно хоть сколько-нибудь внятной программы, которая могла бы завладеть умами. С другой стороны, сама культура становится такой, что никакого интереса к современным теориям в ней возникнуть уже словно и не может — да и от самой современной культуры скорее хочется отвернуться и обратиться к прошлому, чем пытаться изменить ее с помощью какого-нибудь нового теоретического прорыва. Это только мне так кажется или действительно есть противоречие между инерцией современной культуры, какой-то ее беспомощностью, и теоретическими поисками, о которых вы рассказываете?
ЯЦ: Вопрос, наверное, в том, что понимать под инерцией и беспомощностью. Возможно, это и есть инерция и беспомощность человека перед все более нечеловекоразмерными процессами, стоящими за тем, что Марк Фишер назвал «капиталистическим реализмом»: легче представить конец света, чем конец капитализма. И сама неоднозначность ответа на вопрос, открывает ли капитализм эти нечеловеческие процессы как своего рода истину, на которую мы обречены, или же это «нечеловеческое» в качестве ложного сознания навязано нам самим капитализмом, и могут ли эти процессы вообще быть с капитализмом разотождествлены — предполагает целый спектр новых направлений, являющихся симптомами этой неоднозначности. Взять тот же правый акселерационизм, отождествляющий космическое время с капиталом, который, действуя как бы из будущего, постоянно ускоряет реальность, автоматизируя ее и тем самым освобождая от необходимости нашего участия в ней. Да, когда-то можно было купить раз в месяц Фуко — и вроде как соответствовать актуальной повестке. Но сколько всего нужно купить сейчас, чтобы успеть? Если вы специалист по Фуко, то сколько из сотен выходящих за год книг и статей, посвященных ему, вы сможете прочитать и на что еще останется время? Поэтому надо себя ограничивать, концентрируясь, например, только на фукианской биополитике. И так в любой области. Невозможно осилить эти потоки и их интенсивности, и это уже само по себе предполагает дробление и локализацию знания. Поэтому акселерационизм говорит, что время сегодня настолько сгущается, оказывается настолько ощутимым, что становится для нас объективной проблемой. Время открывает свой бесчеловечный характер. Эта ситуация подспудно и ведет ко все более навязчивому ощущению, что невозможно ни за чем угнаться. А это ощущение, в свою очередь, порождает апатию, чувство ностальгии и вовлекает в игру силы прошлого. Поэтому мне кажется, что новая гуманитарная повестка не маргинальна по отношению к нашей жизни, а, может быть, даже наоборот слишком близка к ней.
ИМ: Интересный подход. Хорошо, давайте тогда дальше поговорим о ваших ближайших издательских планах.
ДВ: Сейчас мы запланировали серию книг основоположника акселерационизма Ника Ланда со статьями 1992–2008 годов, так что генезис этого направления уже скоро можно будет проследить и на русском языке.
ЯЦ: Начав заниматься этим изданием, мы размышляли с Димой на примере Ника Ланда о том, почему ему сегодня, да и философам вообще, предъявляют обвинения в политической неблагонадежности.
ДВ: Формально это связано с теперешним отношением Ланда к неореакции. При этом сам термин «неореакция» зачастую толкуют как исключительно политический. Хотя для Ланда это прежде всего определенная проблематизация порядков темпоральности между прошлым и будущим.
ИМ: Ну вообще мы уже давно знаем, кто всегда во всем виноват. Виноваты проклятые постмодернисты, нам про это рассказывали лет двадцать, и теперь это уже почтенная традиция в русской культуре. Наверное, неплохо, что у нас возникают какие-то свои культурные практики — например, ругать современных философов или современное искусство. Мне нравится ругать и то и другое.
ДВ: Очень интересно, кстати, что у нас виноватыми во всем оказались проклятые постмодернисты. Но, думаю, скоро их компанию ждет пополнение. Ника Ланда с легким сердцем можно будет обвинять в неолиберализме, фашизме, гендерном неравноправии и других смертных грехах, имеющих место как в мировых, так и в российских реалиях. В общем, это уже началось, хотя ни одна его книга еще не издана на русском, то есть никакого события еще не произошло. При этом то, что в реальности написал Ланд и каких взглядов придерживается, будет на фоне ругани уже не столь важным. Сложно сказать, почему так происходит. Если в англоязычном мире, например, неприятие тех же «постмодернистов» можно хоть как-то объяснить прагматикой «научных войн», то в России скорее имеет место гипертрофированное и глубоко институциализированное представление об ответственности интеллектуалов, идущее рука об руку с реальной невозможностью изменить что-то политически. Получается своего рода перенос в психоаналитическом смысле. Причем это представление слабо коррелирует с реальным влиянием тех или иных авторов, которых объявляют «ответственными». По крайней мере, выводы об этой ответственности не опираются ни на какую социологию. Вообще, я думаю, что все это как-то резонирует с тем double bind’ом, характерным для советской системы производства гуманитарного знания, которая «знала», что базис определяет надстройку, но еще лучше понимала, что он определяет ее лишь «в конечном счете». Можно назвать это заочным признанием сверхдетерминации еще до появления соответствующей теории Альтюссера. Но без возможности учета реального распределения значимостей среди составляющих надстройку и, соответственно, сверхдетерминирующих базис теорий и концепций. Их реальная значимость — охват, влияние, распространение и так далее — составляла своего рода зону неразличимости, поскольку сама попытка обсуждения значимости той или иной «буржуазной» теории и отличения ее от других была заведомо рискованным предприятием. Потому все, что формально нарушало сложившуюся герметичность, которая на деле, конечно же, была довольно изменчивой, заведомо представлялось несущим опасность — контрреволюционным и реакционным. Например, известный советский марксист Михаил Лифшиц в одном из своих писем сетует на готовящийся русский перевод какого-то чешского структуралиста, высказываясь в духе, что это может повредить советскому марксизму. Возможно, вся эта гиперчувствительность к «ответственности» проистекает у нас из этого.
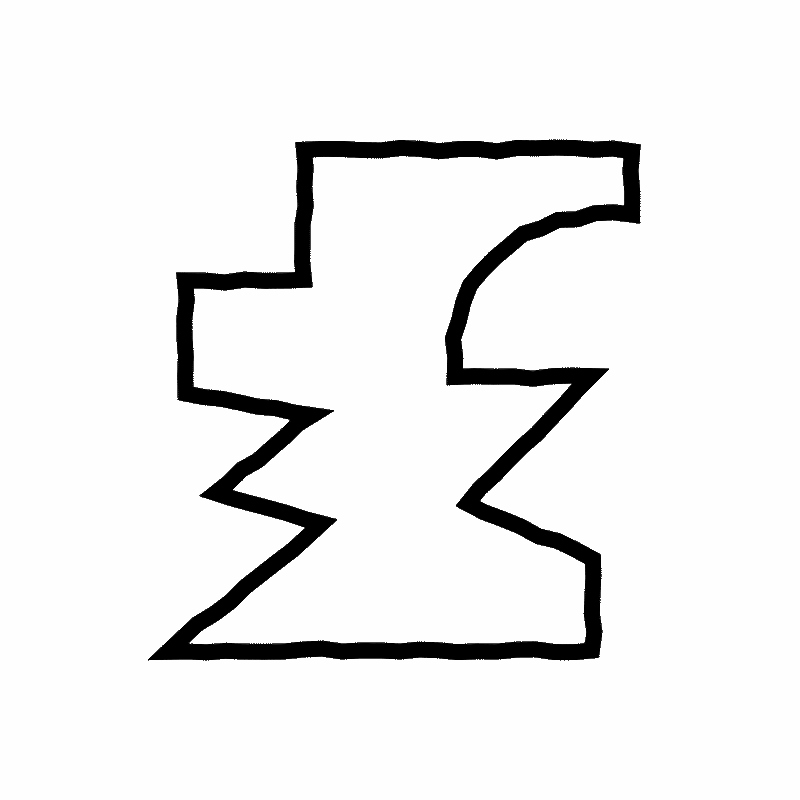
ЯЦ: Постмодернизм понимался как общее состояние, последствие произошедшей катастрофы, а теперь из ниоткуда появляются некие «темные» фигуры, которые внедряются в философский контекст и начинают, как вирусы, уничтожать то, что было сделано до них, манипулировать сознанием и так далее. Такие невидимые вредители, которые подтачивают ситуацию изнутри.
ИМ: Забавно, будто бы действительно существует какая-то ситуация, которую можно подточить.
ЯЦ: Да, иногда кажется, что все еще существует ситуация общего организма — словно у философского знания есть какая-то органическая структура, нормально функционирующая, постоянно атакуемая вирусами.
ИМ: Расскажите, пожалуйста, про книжку Мануэля Деланды, которая сейчас у вас выходит.
ЯЦ: Деланда продолжает традицию Делеза. Он показывает, что существуют некие объективные процессы сборки социального, и проводит различные линии от человека, межличностных отношений, сетей, в которые они вовлечены и с которыми они взаимодействуют, до глобальных образований — таких как общество, правительство, города, государства, народы. Его задача — предложить новую социальную онтологию. По сути дела, он говорит, что существуют автономные социальные сущности, которые не зависят от нашего способа их концептуализации. Чем эта книга полезна? Автор выступает против двух главных подходов к социальному; с одной стороны, против понятия тотальности — например, в гегелевском смысле, когда утверждается, что части какого-то социального целого не имеют смыслового содержания, и тем самым исключается анализ случайных отношений целого с частями, свойств, возникающих в комплексе целого. Вместо этого он предлагает масштабированные сборки, где части могут быть самодостаточными, сохранять определенную автономию по отношению к другим частям целого и, таким образом, обладать несколькими идентичностями. С другой стороны, он критикует сторонников индивидуализма или атомизма, которые просто отрицают существование больших сборок — как в известном высказывании Маргарет Тэтчер о том, что общества не существует, есть только отдельные люди.
ДВ: Деланда выступает против трех способов рассмотрения общества в социальных науках, трех типов редукционизма: против микроредукционизма, согласно которому общество представляет собой не более чем совокупность атомизированных индивидов или их действий и повседневных практик; против макроредукционизма, согласно которому индивиды производны от стоящих над ними социальных структур; и против мезоредукционизма, допускающего существование некоего промежуточного уровня — например, праксиса, который определяет и индивидов, и структуры. Теория ассамбляжей сохраняет сущности всех размеров: индивидов, правительственных организаций, городов, государств и других. Всем этим сущностям теперь достается равная доля реальности, поскольку как ассамбляжи они обладают автономией относительно друг друга. Отсюда важное для Деланды понятие избыточной причинности. Допустим, в метро используется какое-то количество поездов, но если заменить в них ряд деталей или вообще утилизировать несколько поездов, то метро как единая система не разрушится: она обладает некоторой резистентностью по отношению к тому, что что-то из нее убирается или, напротив, присоединяется к ней. То есть она не сводится к своим частям, которые также могут рассматриваться как ассамбляжи. А поскольку части одного ассамбляжа могут становиться частями другого ассамбляжа, который, в свою очередь, может даже включить в себя первый ассамбляж, то части также обладают автономией от целого. Они уравниваются с ним в том смысле, что между ними нет внутренних, сущностных отношений. Отношения только внешние. И это отношения неиерархические. Получается сосуществование на онтологической плоскости взаимно вложенных друг в друга популяций ассамбляжей, различных не по природе — они все уже ассамбляжи, — но по степени или размеру, который всегда относителен: микро- , мезо- , макро- могут быть лишь по отношению к чему-то. Чего нет — так это сущностей как essences: водорода вообще, человека вообще. Есть только сущности как entities, которые всегда историчны, конкретны и существуют в популяциях: популяция атомов водорода, популяция людей. Они актуальны, их границы стабилизировались, но когда-то они были — или при определенных условиях могут стать — проницаемыми для изменений, диапазон которых определяется пространством возможностей ассамбляжа.