«Современную поэзию едва ли можно называть лирикой»
Интервью с литературоведом Ильей Кукулиным
Почему современная поэзия конструирует человеческую индивидуальность и в то же время стирает ее, может ли культурная эволюция состоять из разрывов и как война в советской литературе стала метафорой любого экзистенциального опыта? В издательстве «Кабинетный ученый» вышла книга «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии» литературоведа Ильи Кукулина — по просьбе «Горького» с ним поговорила Мария Нестеренко.
В предисловии к книге вы пишете, что в 1990-е годы, вопреки моде на интертекстуальность, старались использовать социологические методы. Какие именно?
Речь идет скорее о второй половине 1990-х. До этого я довольно долго воспринимал интертекстуальный метод как последнее слово филологической науки и очень серьезно относился к поиску интертекстов; я и теперь пользуюсь этим методом, но он стал для меня сугубо рабочим инструментом и не имеет мировоззренческого значения. Во второй половине 1990-х для меня стало все более заметным и интересным, что изменения в поэзии зависят от состояния общества — но и поэзия устроена так, что позволяет более глубоко понять общественные перемены. Лучше, чем любое другое доступное мне искусство. Я вдруг стал видеть параллели, изоморфные структуры в развитии культуры и общества и попытался говорить о них в своей первой обзорной статье о современной поэзии — она называлась «Прорыв к невозможной связи», как и новая книга. Я действовал наугад, не вполне еще отдавая себе отчета в том, какими методами я пользуюсь; теперь я думаю, что пытался синтезировать концепции русских формалистов, Ролана Барта, и Делеза, и Гваттари. Такой методологический синтез интересен мне и сегодня, хотя, конечно, добавился целый ряд новых имен и теорий.
Для меня развитие общества было связано скорее с развитием различных типов социального воображения, а не с экономическими процессами, не с изменением производственных отношений, как это описали бы марксисты. О том, насколько развитие поэзии может быть соотнесено с развитием экономики, я стал думать намного позже. Мне интересны марксистские работы, но все же сам я не марксист, и для меня влияние экономики на развитие культуры — это не влияние базиса на надстройку, а, скорее, взаимодействие различных типов трансформации человеческого сознания — тех изменений, что происходят в культуре и тех, что происходят в экономике.
А еще тогда, в конце 1990-х, для меня приобрела большое значение мысль о том, что источником стихотворения является не другой текст, а событие, не имеющее вербальной структуры. До-вербальное. Сначала я размышлял об этом довольно наивно, а потом прочитал куски из «Манифеста философии» Алена Бадью и испытал радостное удивление: значит, так можно работать. Помните, Тынянов в статье «О литературной эволюции» говорил про «ближайшие» к литературе «ряды», то есть причинно-следственные цепочки социальных явлений, которые влияют на словесность непосредственно? Во второй половине 1990-х, глядя на трансформации повседневной жизни, я понял — вслед за старшими коллегами, — что уже никакой ряд нельзя назвать «ближайшим», нет более или менее привилегированных рядов. Стихотворение может зародиться под влиянием войны, футбольного матча, повышения налогов, политического митинга, мимолетного разговора с малознакомым человеком и не быть связанным тематически ни с одним из этих событий, а события личной жизни или литературные полемики могут иметь к поэтическому вдохновению очень косвенное, очень опосредованное отношение. Я понял это, читая стихи моих сверстников, которые тогда только входили в литературу.
У меня начали получаться статьи о современной поэзии (до этого не получались), когда я увидел, в чем новы произведения авторов моего поколения, и стал думать вот на эти темы: события, социальный контекст, трансформация субъекта в поэзии. Стихотворение является инструментом трансформации «я»; субъективность пересоздается в результате творчества. Об этом, по-видимому, думали обэриуты — Хармс, Введенский, а я в 1997 году защитил диссертацию о творчестве Хармса, она мне тоже очень помогла, потому что на материале его стихов и прозы я увидел связь литературы с трансформацией сознания.
Вы упомянули о том, что для вас была очень важна поэзия ваших ровесников, и, кроме того, вы писали книгу о поэтическом поколении 1990-х, но не завершили ее.
Сначала позвольте немного сказать о том, как я тогда понимал поколение. В 1994 году в Берлине, где я стажировался от РГГУ, выступал Михаил Смоляницкий, мой ровесник, который потом стал известным театральным критиком и прозаиком. В зале также был Лев Рубинштейн, который жил в Берлине в то время, и он спросил у Михаила, считает ли тот, что его сверстники в литературе образуют новое поколение. Смоляницкий тогда ему ответил, что в русской культуре существует только один образец поколения — это шестидесятники, и, когда у кого-нибудь спрашивают, составляет ли его круг новое поколение, на самом деле этот вопрос предполагает другой смысл: похожи ли он и его друзья на шестидесятников? По его мнению, ни он, ни его друзья на шестидесятников похожи не были. Мне стало интересно, как вообще может конституироваться поколение. К восприятию поколенческой проблематики я был отчасти готов, потому что о ней к тому времени уже много говорил Дмитрий Кузьмин. На время, впрочем, я забыл об этом блестящем обмене репликами, но в 1997 году я увидел, что в текстах разных авторов, примерно моих сверстников, можно увидеть пересекающиеся способы построения метафор, например. Станислав Львовский писал тогда:
время топчет нас молча, как слоны Ганнибала,
кровь стекает на мат из поломанной баскетбольной целки,
слова разбрелись по телу, по теплому человеческому листу,
и по-прежнему пялятся в азотную, зимнюю темноту
освещенные окна пустого по вечерам спортзала.
И я увидел, что у Марии Максимовой, которая сейчас Максимова-Столпник, есть строки о том, что мы пишем собой, располагая свои тела в пространстве. Я понял, что раньше это «письмо собой» так поэтов не интересовало. Значит, возникает новое поколение, и нужно посмотреть, какие есть для этого социальные условия, какие произошли социальные изменения, вызвавшие такую трансформацию воображения. Об этом стоило написать книгу.
Ее замысел состоял в том, чтобы показать: тогдашние произведения поэтов 1990-х (то есть людей, которые родились в конце 1960-х — начале 1970-х годов) в действительности составляют единое, хотя широкое и неоформленное культурное движение. Оно говорит об изменениях в русской культуре, но и в западной тоже, потому что для меня русская культура составляет часть того, что обобщенно называется «Западом». Я задумал книгу о поколении и о том, каким образом это поколение конструирует для себя понимание мира.
 Почему из этого ничего не вышло, сказано в предисловии к моей новой книжке, которое вы упомянули. После того как я выпустил в «Новом литературном обозрении» цикл статей, на основании которых собирался скомпоновать эту книгу, я понял, что ситуация усложнилась, появились новые авторы, младшие, и непонятно, по каким правилам они взаимодействуют с авторами моего поколения, и — что было для меня еще важнее — оставалось не вполне понятным, как устроена генетическая связь работы моих сверстников с неподцензурной литературой советского времени. Мне потребовалось очень много времени, чтобы заново продумать эту усложнившуюся картину. По сути, я начал понимать, как эта картина устроена, только в последние два года, когда стало понятно, что процессы литературного развития, начавшиеся в 1990-х годах, существенно меняются, наступает новая культурная эпоха, и на авансцену выходит молодое поколение, которое уже говорит на других языках.
Почему из этого ничего не вышло, сказано в предисловии к моей новой книжке, которое вы упомянули. После того как я выпустил в «Новом литературном обозрении» цикл статей, на основании которых собирался скомпоновать эту книгу, я понял, что ситуация усложнилась, появились новые авторы, младшие, и непонятно, по каким правилам они взаимодействуют с авторами моего поколения, и — что было для меня еще важнее — оставалось не вполне понятным, как устроена генетическая связь работы моих сверстников с неподцензурной литературой советского времени. Мне потребовалось очень много времени, чтобы заново продумать эту усложнившуюся картину. По сути, я начал понимать, как эта картина устроена, только в последние два года, когда стало понятно, что процессы литературного развития, начавшиеся в 1990-х годах, существенно меняются, наступает новая культурная эпоха, и на авансцену выходит молодое поколение, которое уже говорит на других языках.
Что происходит с вашим поколением сейчас?
В своих размышлениях на эту тему я как раз проводил сравнение с шестидесятниками. Их окрылили новые возможности, открытые десталинизацией. Часть из них считала необходимым остаться в советской литературе и играть по ее правилам, часть ушла в неподцензурную литературу. Но и для тех, и для других большим испытанием оказались 1970-е годы, потому что до этого у многих было ощущение, что они выражают дух современности и находятся в точке роста культуры, а тут это ощущение, видимо, стало уходить. Возникло ощущение фазового перехода — надо было научиться выживать в среде с другими показателями преломления света и распространения звука. В своем эссе 1990 года «Миф о застое» Петр Вайль и Александр Генис показали, что культура в 1970-е годы развивалась очень быстро, причем в первую очередь неофициальная. Потом об этом писал Андрей Зорин в эссе «От Галича к Пригову». Но это из сегодняшнего дня видна та скорость. А тогда, насколько я могу судить по рассказам и текстам старших коллег, у многих было ощущение, что ты пробиваешься сквозь воздух, который стекленеет вокруг тебя, плюс чувство постоянного опустошения среды из-за эмиграции друзей и вообще интересных авторов, режиссеров, музыкантов.
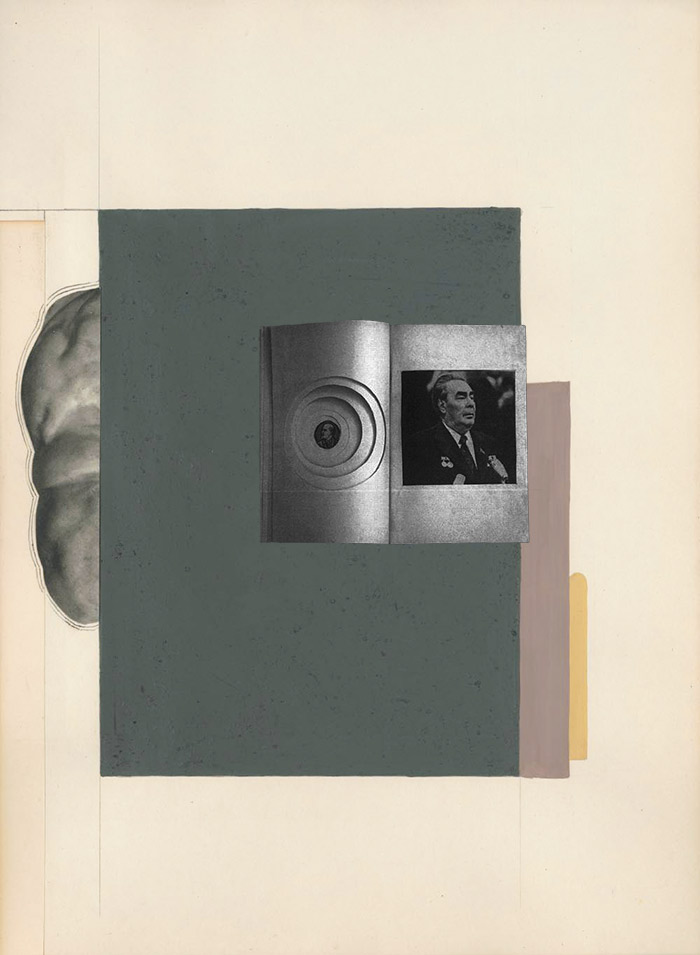 Сегодня для многих из нас — лучшее время, расцвет творческой активности и в то же время испытание, основанное на относительно сходных обстоятельствах: отъезд друзей (мне странно называть его эмиграцией), ощущение все большего давления государства, рождение новых эстетических языков, на которых нужно заново учиться разговаривать... Чтобы сохранить в этой ситуации социальную и культурную открытость и вменяемость, люди с опытом вроде моего должны постоянно меняться и изучать происходящее, иначе они будут копировать то, что делают другие. Для людей моей культурной страты, широко понимаемого культурно-психологического типа, наступает время, когда, с одной стороны, есть уверенность в накопленном опыте и умениях, стремление реализовать свои возможности наиболее полным образом, а, с другой стороны, социально-политическая ситуация каждого из нас испытывает на прочность.
Сегодня для многих из нас — лучшее время, расцвет творческой активности и в то же время испытание, основанное на относительно сходных обстоятельствах: отъезд друзей (мне странно называть его эмиграцией), ощущение все большего давления государства, рождение новых эстетических языков, на которых нужно заново учиться разговаривать... Чтобы сохранить в этой ситуации социальную и культурную открытость и вменяемость, люди с опытом вроде моего должны постоянно меняться и изучать происходящее, иначе они будут копировать то, что делают другие. Для людей моей культурной страты, широко понимаемого культурно-психологического типа, наступает время, когда, с одной стороны, есть уверенность в накопленном опыте и умениях, стремление реализовать свои возможности наиболее полным образом, а, с другой стороны, социально-политическая ситуация каждого из нас испытывает на прочность.
Каких авторов вашего поколения вы читаете сегодня?
Сложно ответить! Назовешь одних, а другие окажутся за кадром. Есть просто люди, стихи которых я постоянно перечитываю. Из людей, которые чуть младше и чуть старше меня, это Станислав Львовский, Андрей Сен-Сеньков, Мария Степанова, Олег Пащенко, Сергей Круглов, Линор Горалик, Александр Скидан, Елена Фанайлова, Николай Звягинцев, Наталья Санникова, Сергей Тимофеев, Семен Ханин... Я назвал тех авторов, стихи которых я привык читать, которые сохраняют для меня важность на протяжении долгого времени. Но я сам себя все время мысленно поправляю: вот, например, Данила Давыдов младше меня на восемь лет, Павел Гольдин — на девять, но в литературном смысле я воспринимаю их как людей, мне близких, в общем, того же поколения, той же культурной генерации. Для меня важен мысленный диалог с русскими поэтами Украины — такими, как тот же Гольдин, Наталья Бельченко, Ия Кива, Дмитрий Казаков... Но это все уже другая история.
А о стихах авторов помладше вы что думаете?
Были поэты, которые родились в конце 1970-х — начале 1980-х и которые важны для меня по тем или иным причинам, но от их дебютов у меня не возникло ощущения цельного культурного движения. Это значительные поэты — такие, например, как Екатерина Соколова, Андрей Черкасов, Мария Ботева, Ника Скандиака, Александр Авербух. У меня не было ощущения, что мы отделены от них каким-то фазовым переходом. Люди, которые появляются сейчас, — это те, кто принес с собой новую поэтическую культурную логику, ее очень интересно попытаться понять, исследовать, но это уже взгляд извне. Это люди, которые родились во второй половине 1980-х — начале 1990-х.
Можете эту новую поэтическую логику как-то описать?
Окончательное ощущение того, что сформировались новые движения, возникло у меня после конференции «Письмо превращает нас», которая прошла в начале сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. Для меня было большой честью выступить там со вступительной лекцией про молодых поэтов. Есть новая культурная тенденция, которая воздействует на людей моего поколения и вообще на всю современную культурную ситуацию в целом, но в наибольшей степени она выражена в творчестве авторов, вышедших на авансцену в 2010-е годы. Эту тенденцию можно назвать interpersonal is political. В 1969 году американская феминистка Кэрол Ханиш сформулировала лозунг тогдашнего феминистского движения: «личное — это политическое». А теперь другое: то, как строится коммуникация между людьми, то, как воображаются новые способы взаимодействия между ними, — все это несет в себе политический заряд трансформации общества и приводит к обновлению искусства. Конечно, эти новации в поэзии вписываются в более широкое культурное движение, которое развивается со второй половины 1990-х. Николя Буррио назвал это реляционной эстетикой, Дэниэл Бич — «искусством встречи», а Клэр Бишоп описала через понятие партиципаторной культуры. Тем не менее то, как это осмысление опыта повседневных взаимодействий разворачивается в русской поэзии, на мой взгляд, обладает чертами несомненной новизны, которую требуется дальше описывать.
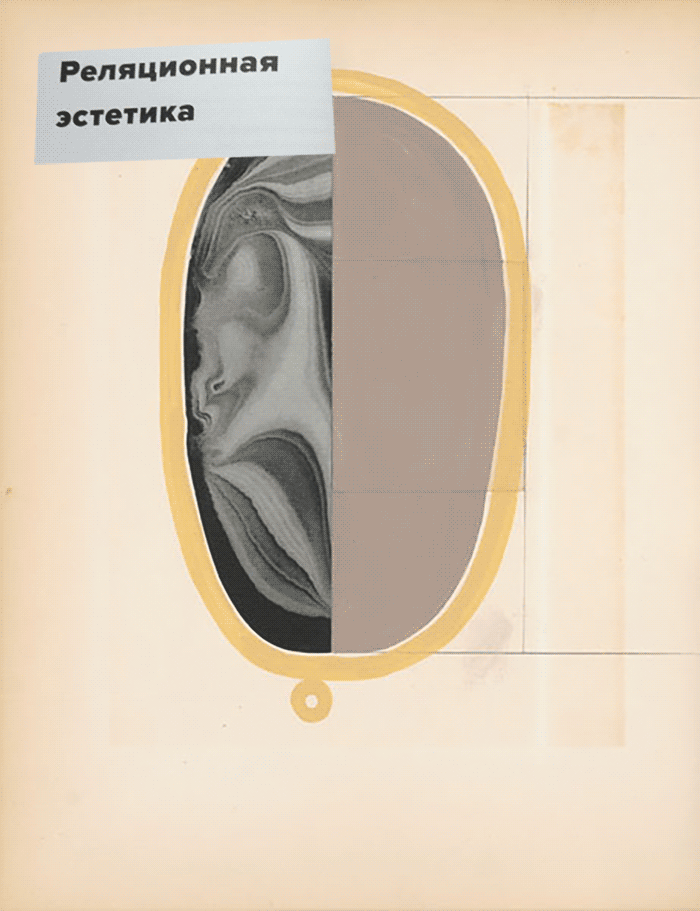 Вообще об этих знаках изменений можно говорить довольно долго. Например, сразу несколько поэтов нового поколения в последние годы обращаются к стихопрозе: это тексты, которые предлагается читать как стихи, они публикуются в поэтических подборках, но не разделены на строчки, а записаны короткими абзацами. Мне кажется, что это связано с тем, что поэты 2010-х очень заинтересованы в идее потенциальности, в идее того, что обозначено как возможность, но еще не свершилось, находится на грани появления. У такой эстетики были предшественники в русской поэзии (помните «С четверга на пятницу» Льва Рубинштейна? «Проснувшись, я сумел вспомнить только что-то между водою и сушей, молчанием и речью, сном и пробуждением и успел подумать: „Вот она, эстетика неопределенности. Вот и снова она...”»), но сегодня такой тип письма становится чертой не индивидуальной, а коллективной поэтики, потому что говорит об исторических изменениях в сознании.
Вообще об этих знаках изменений можно говорить довольно долго. Например, сразу несколько поэтов нового поколения в последние годы обращаются к стихопрозе: это тексты, которые предлагается читать как стихи, они публикуются в поэтических подборках, но не разделены на строчки, а записаны короткими абзацами. Мне кажется, что это связано с тем, что поэты 2010-х очень заинтересованы в идее потенциальности, в идее того, что обозначено как возможность, но еще не свершилось, находится на грани появления. У такой эстетики были предшественники в русской поэзии (помните «С четверга на пятницу» Льва Рубинштейна? «Проснувшись, я сумел вспомнить только что-то между водою и сушей, молчанием и речью, сном и пробуждением и успел подумать: „Вот она, эстетика неопределенности. Вот и снова она...”»), но сегодня такой тип письма становится чертой не индивидуальной, а коллективной поэтики, потому что говорит об исторических изменениях в сознании.