Реальный либерализм
Антрополог Даце Дзеновска о толерантности, правом повороте и migration studies
— Расскажите, пожалуйста, нашим читателям про свою новую книгу.
— Моя книга — о политическом либерализме. О «реальном либерализме», который появился в Латвии после развала Советского Союза. Она называется «Школа европейскости: Толерантность и другие уроки политического либерализма в Латвии». Я показываю, что условием вступления — или, по мнению многих, возвращения — в Европу была либерализация не только институтов, но и людей. С точки зрения европейских учреждений, чтобы стать настоящими европейцами, жители Латвии должны были усвоить либеральные политические ориентации — стать «критически мыслящими» индивидами, которые позитивно относятся к определенным категориям меньшинств (по признаку расы, этничности, гражданства, сексуальной ориентации) и испытывают чувство раскаяния по отношению к определенным историческим событиям — в первую очередь европейскому колониализму и коллаборационизму времен Второй мировой войны.
Требование позитивного отношения к группам (меньшинствам) вместо индивидов не соответствует классическому пониманию либерализма. Поэтому в книге речь идет о реальном либерализме (по аналогии с реальным социализмом). Главная мысль заключается в том, что либерализм — не только политическая традиция или идеология, но и реальные практики в определенном историческом контексте. А их лучше всего исследовать этнографически.
При таком подходе очень хорошо видно, как либеральная политическая добродетель толерантности отличается от социальной добродетели терпимости. Это разные понятия. В 2004 году правительство Латвии в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз создало государственную программу по внедрению толерантности. Я следила за реализацией этой программы и быстро поняла, что у большинства жителей Латвии совсем другое представление о том, что это значит. Люди воспринимали терпимость как лояльное отношение к поведению, которое отличается от их собственного. Они считали, что ходить по улице, жить в обществе и быть человеком — значит быть терпимым, то есть сосуществовать с разными людьми. В этом контексте нетерпимость, направленная против антисоциального поведения (курения в автобусе или причинения вреда слабым), осознается как добродетель. Именно нетерпимость помогает создать общее публичное пространство.
В рамках реального политического либерализма быть терпимым — значит позитивно относиться к другим людям согласно критериям идентичности. Многим в Латвии было непонятно, почему толерантность относится к идентичности, а не к поведению, — почему надо терпимо относиться к человеку, потому что он, например, русский.
Иначе говоря, внедрение реального либерализма стало тотальной социальной трансформацией. Эта трансформация была направлена на радикальное изменение отношения людей к себе, к обществу, к нации. По сути, это переделывание видения мира. В книге описаны разные проявления этого явления в публичном пространстве.
— У общей идеи толерантности получился обратный эффект в некоторых странах — в США, Австрии, Венгрии, где к власти пришли крайне правые силы. В России, на мой взгляд, более терпимое общество, чем может показаться со стороны, но слово «толерантность» все равно используется как ругательное.
— Как я сказала, толерантность и терпимость — не одно и то же. СССР развалился, социализм ретировался, но что осталось? Либерализм почувствовал себя концом истории. Либеральные элиты — и на Западе, и в бывшем СССР — пришли к выводу, что другой легитимной модели для организации политической и экономической жизни нет и быть не может. Все институциональные и социальные реформы исходили из этого. Противники реформ и просто сторонние наблюдатели казались безнадежно отсталыми людьми, которые еще не поняли, как жить. А сами эти люди реагировали и на тотальную социальную трансформацию, и на самоуверенность носителей реформы.
Очевидно, что Брекзит, например, стал результатом отчуждения элит от большинства населения. Либералы не скрывали своей нетерпимости к тем, кто еще не освоил либеральной толерантности (а в Британии среди них выделялись мигранты из Восточной Европы).
Понятие толерантности и, в более широком смысле, дискурс реального либерализма стали стандартным, не подверженным рефлексии языком. Это очень похоже на то, о чем пишет Юрчак в книге «Это было навсегда пока не кончилось». Носители либерализма бесконечно повторяли некие формулы, не задумываясь о том, что они означают и как их понимают объекты просвещения.
Советскому человеку, который с подозрением относился к идеологии, которая отрицала свою идеологичность, казалось странным, что либерализм, с одной стороны, несет свободу, а с другой — требует правильного поведения. Получалось, что советская цензура была плохой, потому что исходила от государства, а либеральная самоцензура хорошая, потому что предполагает этически безупречное отношения к миру. Пути разные, а результат один. Носители либерализма не считали подобную реакцию легитимной.
 Даце Дзеновска
Даце Дзеновска
В своей книге я рассказываю о судьбе латышского слова žīds («жид»), которое в довоенной Латвии использовалось еврейскими организациями без негативной коннотации. Во время немецкой оккупации это слово стало ругательным и оставалось таковым в советские времена. По мнению многих моих информантов, это слово было нейтральным этнонимом, испорченным немцами и запрещенным советской цензурой (отчасти потому, что соответствующее русское слово стало ругательным задолго до войны). Латыши, которые так думают, ассоциируют свободу от иностранной оккупации со свободой снова использовать это слово, как будто слово тоже можно освободить от власти. Но такого не бывает. Бывает, конечно, что сами меньшинства используют в качестве самоназвания ругательные слова, но со словом «жид» этого не произошло.
Многим латышам требование перестать пользоваться этим словом напоминало советскую цензуру. Либералы, которые тоже отрицали советскую цензуру, настаивали на отличии неприемлемой внешней цензуры от необходимой и морально мотивированной самодисциплины.
Надо сказать, что логику толерантности критикуют не только постсоветские латыши, но и некоторые левые ученые. В книге Венди Браун «Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire» толерантность определяется как иерархическая модель совместного существования. То есть кто-то является субъектом толерантности, а кто-то — объектом, и между ними нет равенства.
— Что послужило катализатором процессов, связанных с правым поворотом в Европе?
— Во время холодной войны «угроза социализма» стала одной из причин создания западного welfare state (государства всеобщего благосостояния). С распадом СССР ей на смену пришла неолиберальная глобализация, плоды которой мы увидели в 2008 году. В книге «Democracy Disrupted: The Politics of Global Protest» болгарский политолог Иван Крастев пишет о том, что в отсутствие альтернативы неолиберализму европейские — и не только европейские — политические партии чрезвычайно похожи друг на друга в экономическом отношении и не предлагают ничего принципиально нового для того, чтобы остановить нарастающее неравенство.
— Если брать Россию, то после протестов 2011–2012 годов, которые закончились массовыми арестами, государству понадобилось куда-то перенаправить народный гнев. Это попробовали сделать с помощью мигрантов: в 2013 году велась очень мощная антимиграционная пропаганда. Но все равно государству не удалось переключить людей. Тогда власти Москвы, чтобы утихомирить граждан, начали массированно заниматься урбанистикой, что уже отчасти сработало (интервью было взято за несколько недель до акций протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. — Прим. ред.).
— Государству очень важно демонстрировать свое присутствие через осязаемые объекты. Можно построить стену, можно обновить инфраструктуру. В Венгрии, например, массово строятся стадионы и другие городские объекты — при очень высоком уровне коррупции. В Латвии мэр Вентспилса Айварс Лембергс погряз в коррупции, но местные жители его поддерживают, потому что он финансирует инфраструктуру. Благоустройство часто используется как инструмент воздействия на общественное мнение.
— Сейчас благоустройство, установка камер и расчистка территорий становятся мягким инструментом подавления.
— Это глобальный тренд. В лондонском метро через каждые десять минут звучит объявление о том, что люди должны сообщать о нарушениях порядка. В Лондоне очень много камер, и любую драку в темном переулке можно посмотреть на следующий день. С одной стороны, создаются вот такие просматриваемые пространства, а с другой, есть территории, которые считаются настолько опасными, что туда не должна ступать нога либерального человека, такие черные пятна на карте. Меня интересует реконфигурация пространства, как локальная, так и в рамках мегаполисов. Об этом мой новый проект, о котором я рассказывала на «Стрелке». Какие, например, существуют отношения между Москвой и каким-нибудь совсем заброшенным поселком? Между ними нет прямой связи, но оба являются частью глобальной логики реконфигурации пространства. Если большинство людей будет жить в городах, то как будет выглядеть пространство между городами? Eсть фильмы, в которых город изображается такой крепостью со стеной, за которую выбрасывается мусор и ненужные люди. Звучит радикально, но узнаваемо.
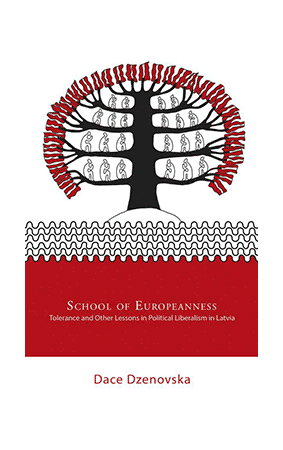 — В России есть очень интересное отличие от Великобритании и США в плане урбанистики: в Великобритании много крупных городов, в которых живут люди, а в России только два города, в остальном пространстве жить считается неприличным, что ли.
— В России есть очень интересное отличие от Великобритании и США в плане урбанистики: в Великобритании много крупных городов, в которых живут люди, а в России только два города, в остальном пространстве жить считается неприличным, что ли.
— Эта точка зрения — что неприлично жить вне Москвы и Петербурга — связана с определенным пространственным понятием цивилизации. В той же Великобритании еще совсем недавно люди, жившие в провинциальных городах, воспринимали себя частью глобальной империи и в некотором важном смысле не чувствовали себя провинциалами. Но в последние десятилетия неолиберальной глобализации и они почувствовали радикальное отчуждение, что и стало причиной Брекзита.
У русских есть интересное ощущение вторичности в глобальном контексте. Может быть, поэтому так важно жить в центре России (то есть в двух городах)? Но вам виднее.
Ощущение вторичности заметно и в научной жизни — не только в России, но и в Восточной Европе. Мы часто видим, как ученые берут западные теории и приспосабливают к ним свой материал, даже не думая о том, чтобы создать что-то новое.
— Посоветуйте, что можно почитать человеку, который ничего не понимает в вопросах миграции.
Есть тексты, которые стали каноном дисциплины. Например, Stephen Castles, Hein De Haas and Mark Miller, «The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World» или Ian Goldin, Geoffrey Cameron and Meera Balarajan, «Exceptional People: How Migration Shaped our World and will Define our Future».
Но migration studies не традиционная дисциплина. Она создана недавно, и поэтому канон только складывается. Одновременно растет риск появления жестких концептуальных границ, что сказывается на интеллектуальной креативности. Поэтому я предпочитаю книги, которые смотрят на миграцию в более широком историческом контексте. Например, Dirk Hoerder, «Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millennium».
Интересно и полезно читать этнографии. Книга Сета Холмса «Fresh Fruit, Broken Bodies: Migrant Farmwokers in the United States» показывает сочетание разных факторов, которые влияют на процесс миграции из Мексики в США и жизнь мигрантов. В книге «Illegal Traveller: An Auto-Ethnography of Borders» Шахрам Кошрави описывает свой «нелегальный» путь из Ирана в Швецию, где он стал профессором антропологии. И, наконец, Мадлен Ривз — «Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia», о появлении границ там, где их не было. То, что раньше было ежедневным перемещением, стало миграцией. Частично о том же моя книга, с которой мы начали наш разговор: русскоязычные, многие из которых жили в Латвии всю свою жизнь, стали мигрантами — некоторые даже нелегальными — из-за перемещения не людей, а границ.