«Рассказы Шаламова остаются документами, даже если читать их как сказки»
Интервью с филологом Эмили Ван Баскирк
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Расскажите, пожалуйста, о том, как вы начали изучать русскую литературу.
— В 1990 году, когда мне было пятнадцать лет, я поехала на две недели в СССР по обмену, жила в двух русских семьях, сначала в Москве, потом в Чебоксарах, но тогда еще не начала учить русский язык. Я выросла в период холодной войны, когда в США были распространены разные стереотипы об СССР. Меня поразил контраст между тем, как изображают советских людей, и тем, какие они на самом деле. Обе семьи оказались замечательными, я влюбилась в русскую культуру и захотела выучить русский, чтобы однажды вернуться в СССР и иметь возможность говорить с этими людьми на их языке. Когда я поступила на бакалавриат в Принстонский университет, то записалась на курсы русского языка, а потом еще начала ходить на семинар к Кэрил Эмерсон. Так я и начала заниматься русской литературой.
 Эмили Ван Баскирк
Эмили Ван Баскирк
— А как вы впервые познакомились с текстами Лидии Гинзбург?
— Мне потребовалось несколько раз столкнуться с текстами Гинзбург, чтобы заинтересоваться ими. Еще в бакалавриате, когда я писала небольшую исследовательскую работу про «петербургский текст» у Гоголя и Достоевского, Кэрил Эмерсон дала мне почитать на тот момент еще неизданный английский перевод «Записок блокадного человека» [он был опубликован в 1996 году. — К. М.], но тогда проза Гинзбург показалась мне слишком странной и не особо интересной. Уже в аспирантуре Стефани Сандлер задала нам прочитать Гинзбург для одного из семинаров. Не помню, что именно это было, возможно фрагменты книги «О лирике» и «повествование» «Заблуждение воли». Наконец, в третий раз я прочитала Гинзбург с Андреем Зориным, который вел у нас в аспирантуре семинар по «прозе ученых»: Бориса Эйхенбаума, Александра Жолковского, Михаила Безродного и других. Именно тогда я наконец по-настоящему заинтересовалась ею. Меня привлекла сложная история создания и публикации «Записок», а также попытки Гинзбург найти психологические закономерности в собственном поведении и поведении современников.
На тот момент еще никто не работал с рукописями Гинзбург, хранившимися в квартире Александра Кушнера [ленинградский поэт, которому Гинзбург завещала свой архив. — К. М.]. Я думала, что никогда не получу доступ к этим материалам, но в итоге мне все же удалось поработать с ними.
— Как это произошло?
— В 2003 году я приехала в Санкт-Петербург и познакомилась с Кушнером и другими друзьями Гинзбург: Елеазаром Мелетинским, Еленой Шварц, Ксенией и Еленой Куман, Яковом Гординым, Николаем Кононовым, Алексеем Машевским, Ниной Снетковой, Яковом Богровым и другими. Кроме того, мои профессора из Гарварда, Уильям Миллс Тодд III и Джон Малмстад, тоже были знакомы с Лидией Яковлевной. Я взяла интервью у Кушнера, больше узнала о жизни Гинзбург (например, ее сексуальности). Он оказался очень добрым и милым человеком. Кушнер был рад, что кто-то в США интересуется Гинзбург. Он сказал тогда, что я могу приехать следующим летом и поработать с ее рукописями. Я так и сделала и впоследствии написала диссертацию, основанную на этих материалах.
— Вместе с Андреем Зориным вы подготовили книгу «Проходящие характеры», в которую вошел первоначальный вариант того, что впоследствии стало «Записками блокадного человека». Как работа с рукописями Гинзбург изменила ваше восприятие этого текста?
— «Записки блокадного человека» имеют тройную датировку: 1942–1962–1983. Когда мы начинали работу над изданием, то не знали, да и никто не знал, какие именно части текста Гинзбург написала во время блокады, а какие уже после нее. Оказалось, что «День Оттера», ранняя версия «Записок блокадного человека», хранится не у Кушнера, а в Санкт-Петербургской публичной библиотеке, куда он отнес рукопись после смерти Гинзбург. Но ее архив не был каталогизирован, и мы не знали, что именно и где искать. Это было целое приключение. Сначала мы нашли только одну страницу, но я убедила библиотекарей продолжить поиски, и в итоге нам удалось обнаружить весь текст целиком.
С учетом того, насколько детальные описания содержатся в «Записках», можно было предположить, что Гинзбург начала работу над ними еще во время блокады. Так в итоге и оказалось. Поразительно, что даже в столь тяжелых условиях Гинзбург оказалась способна написать такой сильный текст, пускай и в черновом виде. Вероятно, именно благодаря тому, что Лидия Яковлевна создавала свои «Записки» в те годы, они остаются одним из самых важных текстов о блокадном периоде. Отличие блокады от других катастрофических событий XX века (холокоста или сталинских лагерей) заключается в том, что у люди могли документировать свой опыт в тот самый момент, когда с ними происходили все эти ужасные вещи. Впрочем, сама Гинзбург, кажется, перестала писать самой страшной зимой 1941—1942 года, когда даже очереди, как она заметила потом, были молчаливыми.
— Насколько я понимаю, до сих пор далеко не все рукописи Гинзбург опубликованы. Что еще содержится в ее архиве?
— Если говорить о блокадном периоде, то большинство рукописей были опубликованы в книге «Проходящие характеры», вышедшей в 2011 году. Правда, впоследствии мы обнаружили еще кое-какие материалы. Например, одна из опубликованных нами записных книжек называется «Слово», но в архиве Гинзбург есть еще тетрадка с подзаголовком «Словоупотребление» — это что-то вроде упражнения в дискурс-анализе, над которым она работала в годы блокады или после нее. Я расшифровала некоторые фрагменты этой записной книжки, но далеко не все.
Если говорить о более раннем периоде, с 1925 по 1934 год, то там тоже есть отдельные неопубликованные записи, хотя в 2002 году Кушнер с помощью Дениса Устинова и других подготовил большое собрание прозы Гинзбург, куда вошли почти все довоенные тексты. Кушнер очень хочет, чтобы когда-нибудь вышло полное научное собрание сочинений Лидии Яковлевны, но это потребует огромной работы.
— Параллельно с работой над «Проходящими характерами» вы писали монографию о Гинзбург, «Реальность в поисках литературы». Скажите, какие цели вы ставили перед собой? На что вам хотелось обратить внимание читателей?
— Сначала меня интересовало, как Гинзбург отвечала на те вопросы, которые в 1930-е годы встали перед всеми попутчиками: может ли писатель существовать в условиях колоссального давления со стороны государства, и если да, то какие формы должна принимать его работа. Меня интересовала фигура автора, пишущего в стол и не имеющего аудитории. Мне также было важно уяснить взаимоотношения между писательской и литературоведческой работой Гинзбург, осмыслить тот «двойной разговор — о жизни и литературе», который она вела в своих записных книжках и монографиях. Гинзбург поставила перед собой очень амбициозную задачу: разработать концепцию нового «постиндивидуалистического человека», появившегося в XX веке. Мне хотелось понять, каких результатов удалось достичь на этом поприще с учетом того, что она всегда считала себя писателем-неудачником. Работая с текстами Лидии Яковлевны, я увидела, что ее очень интересовали вопросы человеческого поведения, психологии, характера.
Есть некоторые свидетельства (например, Григория Гуковского в пересказе Ильи Сермана) того, что Гинзбург работала над большим романом, который одни ее современники сравнивали с «Войной и миром» Толстого, а другие — с «В поисках утраченного времени» Пруста. Известно, что она читала отдельные фрагменты своим близким друзьям. Мне удалось найти подготовительные материалы для этого романа, озаглавленные «Дом и мир». Они до сих пор остаются неопубликованными.
— Насколько это большой текст и что он собой представляет?
— Это довольно большая папка с набросками: диалогами, описаниями характеров и так далее. По сути, опубликованные повествования Гинзбург («Записки блокадного человека», «Возвращение домой», «Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли») встраиваются в этот «дневник по типу романа». Написанный позже «День Оттера» тоже связан с ними. Я подробно рассказываю об этом в книге «Реальность в поисках литературы».
Судя по обнаруженным фрагментам, Гинзбург собиралась написать отдельные разделы, посвященные Анне Ахматовой, Борису Бухштабу и другим своим знакомым, но так и не написала. А может быть, и написала, просто мы не можем найти оставшиеся рукописи.
Когда я нашла «Дом и мир», мы с Андреем Зориным сказали: «Ага, вот оно!» В середине 1930-х годов Гинзбург теряет интерес к записным книжкам, у нее появляется идея создать более масштабное и амбициозное произведение в форме романа, но ее затея в итоге заканчивается неудачей. Я много думала о том, почему ей так и не удалось написать роман. Возможно, эта неудача была вполне закономерной.
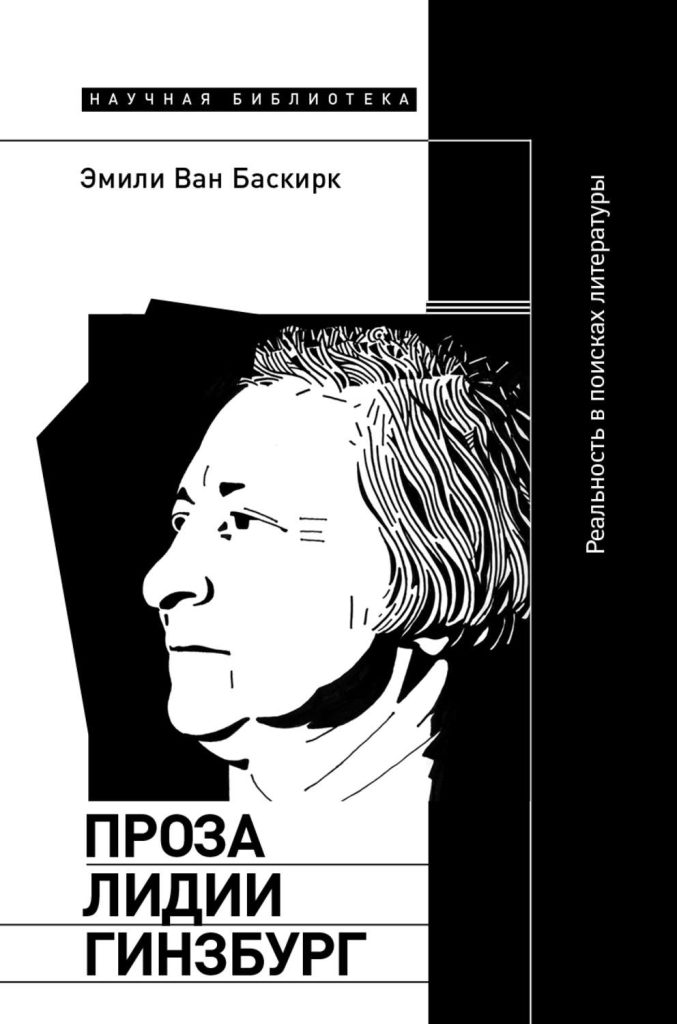
— Интересно, как менялось отношение Гинзбург к романной форме: в 1920-е годы, когда шли дискуссии о «кризисе» и «смерти» романа, она предпочитала работать в формате записных книжек, но в следующем десятилетии, как вы отмечаете, решила написать роман. Как вы думаете, почему у нее возникла такая идея? И с чем вы связываете ее неудачу в работе над романом?
— Гинзбург всегда хотела написать роман определенного вида, который она называла «дневником по типу романа». Она во многом ориентировалась на Пруста, но также постоянно сравнивала себя с Толстым. Я думаю, что для нее написание романа было способом утвердить себя как писателя и встать в один ряд с этими фигурами. При этом она хотела вести «прямой разговор» и избегать изображения вымышленных характеров и диалогов, что делало ее задачу еще более сложной. Свою роль сыграла и сексуальная ориентация Гинзбург. Будучи лесбиянкой и живя в СССР, она не могла и не хотела напрямую говорить о своем сексуальном опыте, но как в таком случае написать автобиографический роман? Наконец, письмо Гинзбург всегда тяготело к фрагментарности. Даже ее более масштабные «повествования» состоят из разрозненных частей. На мой взгляд, это скорее ее сильная, нежели слабая сторона как писателя. Гинзбург не интересовала сюжетная проза, но если в тексте нет сюжета, то отсутствует и связующий элемент. Она много размышляла о современном «постиндивидуалистическом» человеке, который сам весь состоит из фрагментов. Логично, что и ее письмо было лишено целостности, это в общем характерно для модернистской прозы.
— Давайте поговорим теперь о вашем нынешнем исследовательском проекте. Насколько я знаю, сейчас вы занимаетесь документальной прозой советского периода, посвященной военному и лагерному опыту. Можете поподробнее рассказать об этом?
— Этот проект продолжает мои размышления о кризисе романа в XX веке и о том, какие стратегии письма использовались авторами этого периода для осмысления катастрофического опыта. Меня в первую очередь интересует фигура Шаламова, но я также думаю писать о Гинзбург в диалоге с Шаламовым, о незаконченном романе Василия Гроссмана «Все течет» и о произведениях Светланы Алексиевич. Последние относятся к совершенно другой эпохе, но во многом находятся в диалоге с Шаламовым. В прозе Алексиевич мы обнаруживаем ту же полифоничность, то же смешение документальности и вымысла.
Но, вероятнее всего, я сосредоточусь исключительно на Шаламове. Мне хочется понять, к какому именно жанру относится его проза. Сам он называет свои рассказы документами, но очень многое в них носит явно вымышленный характер. Шаламов пытался ответить на вопрос, каким именно образом можно рассказать правду об ужасном лагерном опыте и какие литературные формы подходят для этого.
— Какие точки пересечения вы находите между прозой Гинзбург и Шаламова?
— И Гинзбург, и Шаламов сложились как писатели и интеллектуалы в 1920-е годы. На Гинзбург сильно повлиял формализм, а Шаламов какое-то время был близок к ЛЕФу, хотя впоследствии и дистанцировался от него. Проза обоих авторов была опубликована в последние годы существования СССР, хотя и писалась задолго до этого. Она испытала на себе определенное влияние «литературы факта» и оказалась актуальной для позднесоветской и постсоветской аудитории, которая была готова воспринимать фрагментированные и сложные тексты, не вписывавшиеся в официальный советский дискурс. И Гинзбург, и Шаламов интересовались «психологическими закономерностями». Это ключевое выражение для Гинзбург, а Шаламов использует его же в эссе «О прозе». В первом случае речь шла о типичном поведении блокадника и ленинградского интеллигента, а во втором — лагерника, но если Лидия Яковлевна предлагает очень детальный, местами даже гипертрофированный анализ психологии ленинградцев, то в «Колымских рассказах» Шаламова мы обнаруживаем «анализ в самом отсутствии анализа», как он сам выражается. Точку зрения Гинзбург хорошо характеризует следующая цитата из ее записных книжек: «Я охотно принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово».
Несколько лет назад я прочитала в Нью-Йоркском университете доклад, в котором анализировала шаламовский рассказ «Сухим пайком». Там есть сцена, где один из персонажей узнает, что его и других заключенных должны отправить обратно в лагерь после выполнения задания, и совершает самоубийство. Шаламов так описывает этот эпизод: «Иван Иванович успокоился. Он повесился...» Здесь нет никакого психологического анализа, но мы, прочитав и проанализировав рассказ, можем догадаться, почему Иван Иванович пошел на этот шаг. Если бы такой эпизод встретился в прозе Гинзбург, она бы подробно расписала мотивацию персонажа.
Как человек, долгие годы работавший с текстами Лидии Яковлевны, я привыкла к ее последовательности и непротиворечивости. Если вы хорошо знаете манеру письма и взгляды Гинзбург, то вас вряд ли что-то может удивить в ее текстах. Шаламов же постоянно противоречит сам себе. Например, он говорит, что колымский опыт не может никого ничему научить, но вы читаете его рассказы и обнаруживаете в них многочисленные уроки.
— Недавно вы прочитали доклад, в котором анализировали произведения Шаламова через призму беньяминовской концепции рассказчика. Как идеи Беньямина помогают лучше понять «Колымские рассказы»?
— В 1936 году Беньямин пишет эссе «Рассказчик», посвященное Николаю Лескову, и говорит о том, что в современном мире практика рассказывания историй умерла. Люди, вернувшиеся с фронтов Первой мировой войны, не могут ничего рассказать о своем опыте. В том году, когда вышло эссе Беньямина, Шаламов был на Колыме. Конечно, тогда он ничего не мог писать, но тот факт, что впоследствии ему все же удалось создать цикл «Колымских рассказов», говорит о том, что узники лагерей продолжали рассказывать друг другу истории в отсутствие какой-либо письменной культуры. В такой ситуации опыт других людей как раз мог оказаться ценным для того или иного узника и спасти ему или ей жизнь.
Мне кажется, что эссе Беньямина во многом перекликается с рассказами Шаламова. Например, Беньямин отмечает, что в устных историях отсутствует психологическое объяснение, что делает их более универсальными и облегчает передачу от одного человека к другому. Беньямин пишет о рассказывании историй через призму ностальгии, для него это утраченное искусство. В то же время на Колыме в абсолютно невыносимых условиях это искусство, по всей видимости, продолжало жить.
Меня особенно занимает то, какую роль в шаламовских рассказах играет совет. Многие его истории отсылают к сказкам, которые как раз призваны помогать в трудных жизненных ситуациях. В рассказе «Сентенция» у Шаламова есть такая фраза: «Не веришь — прими за сказку». Эта поговорка была распространена в лагерях среди «блатных». Я хочу разобраться, как можно по-новому понять рассказы Шаламова, если посмотреть на них через призму сказки.
— Какие из рассказов Шаламова, на ваш взгляд, наиболее близки к сказке?
— В первую очередь это «Заговор юристов», который основан на событиях, произошедших с Шаламовым в декабре 1938 года, когда его чуть не расстреляли на Колыме. Это история фантастического путешествия, что довольно нетипично для Шаламова. В рассказе очень много символических элементов, напоминающих сказочные, хотя в то же время они абсолютно реальны. Например, герой едет в расстрельную тюрьму «Серпантинную». Если вы погуглите, то увидите, что у этой тюрьмы очень загадочная история, многие даже сомневались в том, что она действительно существовала. Персонажи рассказа едут на тюремном автобусе, который они называют «ворон», на своего рода магическом транспортном средстве. У Шаламова есть и другие, более короткие рассказы, также имеющие сказочные элементы, — например, «Ягоды», персонажи которого собирают шиповник, бруснику и другие ягоды, которые изображены как чуть ли не волшебные. Солагерник рассказчика выходит за границы зоны, чтобы достать «очарованные ягоды», и его убивают охранники.
Когда я начала работать над этой темой, то нашла статью Ларисы Жаравиной, которая также говорит о сказочных элементах в прозе Шаламова и анализирует рассказ «Сухим пайком», где можно обнаружить обряд инициации молодого парня в мужчину.
— Для чего ему могли понадобиться эти сказочные элементы?
— Это вопрос, на который я все еще ищу ответ. Шаламов в одном месте пишет, что «любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни». В отличие от Гинзбург, которая не писала сюжетную прозу, он, напротив, видел вокруг себя множество готовых сюжетов. Его рассказы остаются документами, даже если читать их как сказки. Шаламов работает с тем, что можно назвать фантастическим реализмом лагерного опыта. Возможно, сказочная форма была для него способом восприятия и сохранения памяти о событиях, которые казались абсолютно нереальными и непостижимыми. Чтобы осмыслить происходившее в лагере, нужна была форма, которая была бы одновременно документальной и сказочной.
В числе прочих меня занимает вопрос о том, почему проза Шаламова при всем его стремлении к документальности настолько литературна — это ведь в прямом смысле рассказы, пускай и не в беньяминовском смысле, но они очень мастерски сочинены и обработаны. При этом в рассказе «Галина Павловна Зубова» он (точнее, рассказчик) называет «Заговор юристов» мемуаром и пишет, что в этом рассказе «документальна каждая буква». Кроме меня, этой темой занимается Елена Михайлик. Мне очень понравилась ее книга «Незаконная комета», где она также отмечает противоречие между документальностью и литературностью в шаламовской прозе. Концепция сказки может помочь разрешить это противоречие.