«Повесть „В ожидании козы“ была для меня важнее „Архипелага ГУЛАГа“»
Читательская биография Дмитрия Озерского, поэта и автора текстов группы «АукцЫон»
«Меня удивило, что и в школьной программе бывают хорошие книжки»
Я научился читать довольно рано — в три года. В детском саду меня часто сажали читать книжки вместо воспитательницы, которая в это время пыталась отдохнуть. Из самых ярких впечатлений того периода — «Жил осьминог со своей осьминожкой» Эдуарда Успенского, еще была книжка «Сигнал тревоги» — рассказы о пограничниках (не помню автора). Один из рассказов я постоянно перечитывал, и мне казалось, что уж в этот раз все будет по-другому. Следующая книга, произведшая на меня огромное впечатление, — это «Том Сойер», мне было шесть лет, до сих пор очень хорошо ее помню. До этого пытался читать «Пиноккио», но как-то не очень пошло. Мама рассказала, что по-русски есть «Буратино», которого написал Толстой, и я решил, что все наоборот: Коллоди позаимствовал сюжет у нашего писателя. Я жирно закрасил на обложке фамилию «Коллоди», написал «Толстой». Ну а чтобы другая известная фамилия не пропала даром, я зачеркнул фамилию художника и написал «А. Пушкин». Была и разная советская литература: детские рассказы Зощенко, Пантелеева. Из школьной программы пришел Достоевский. Не могу сказать, что я тут же бросился штудировать его собрание сочинений, — скорее, меня удивило, что и в школьной программе бывают хорошие книжки. На фоне Платона Каратаева и бесконечного обсуждения его вклада в революционное движение «Преступление и наказание» воспринималось как-то очень свежо, оно меня зацепило. А Толстой — нет, хотя я честно прочитал все четыре тома «Войны и мира».
Литература — это личное. В детстве для «всех» было кино, оно задавало ролевые модели, что ли. Показывают фильм про Д'Артаньяна — все начинают драться на палках (как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»). «Неуловимые мстители» — вот была самая любимая игра. Все хотели быть как герои этого фильма. И у каждого в этом смысле была своя судьба. Все хотели быть похожими на Яшку Цыгана, а поскольку я был очкариком, то мог рассчитывать только на Валерку, других вариантов не было.
«В поэтическом аспекте очень важной была встреча с Алексеем Хвостенко»
Поэзии я читал достаточно много всегда. Были какие-то детские любови, которые случились и прошли. Так часто бывает: услышал где-то два стихотворения, они понравились тебе, но больше у этого автора ты ничего не нашел. Так у меня с детства есть несколько любимых стихотворений Александра Кушнера, «Два мальчика», например:
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один,
другой опустится.
К плечу прибилась бабочка-
капустница.
И так далее. Оно милое. Для четырнадцати лет вообще в самый раз. Но вряд ли я буду его сейчас перечитывать. Если говорить о «вечных ценностях», то Хлебников, Хармс, Введенский — они были, они и остались. Один из первых поэтов, который стал любимым, — Пастернак. Меня всегда поражало, как он работает со строфой и звуком. Все удивляются: как Пастернак может быть моим любимым автором, если это совсем не похоже на то, что я пытаюсь делать? Тем не менее! Я много читал, но есть пятерка, ну, может быть, десятка любимых. Не могу сказать, что мне не нравятся Блок или Маяковский, но это не те авторы, которых я перечитываю.
В поэтическом аспекте очень важной была встреча с Алексеем Хвостенко. Есть очень много поэтов, которых интересно читать, но очень редко возникает ощущение, когда ты не понимаешь, как это сделано. Что, и так можно? И Алексей Хвостенко, и Анри Волохонский были как раз из таких поэтов. Мы достаточно общались, и для меня очень важно и значимо было их творчество. Но я не помню, чтобы от них пришли какие-то рекомендованные книги. Увлечение Хлебниковым было общим, да. Сделать музыкальный альбом на стихи Велимира — это была его идея. Хлебников — один из самых любимых поэтов Хвостенко, он считал, что именно Хлебников открыл новую эру в истории поэзии. Как-то Хвостенко и Федоров возвращались вместе из Москвы, Хвост читал Хлебникова, и они решили попробовать сделать музыкальный проект на его стихи.
«Благодаря повести „В ожидании козы” я поступил в институт»
Я всегда очень любил сказки, поэтому собрал довольно большую библиотеку всего, что с ними связано. У меня было собрание от украинских народных сказок до легенд и преданий народов маори. Очень хорошо помню замечательную книгу — к счастью, изданную большим тиражом: «Гэсэр» — бурятский героический эпос. Наверное, там был замечательный подстрочник, а перевод сделан Семеном Липкиным. В «Гэсэре» потрясающий слог:
Девяносто бесов-уродцев,
Чьи противны крики и вопли,
Чьи носы вроде старых колодцев,
Толщиною в два пальца сопли,
Чьи без тульи шапки мохнатые,
Чьи бесхвосты кони горбатые, —
Облетали трижды вокруг
Неокрепшей земли необъятной.
Когда я влюбился в сказки, то казался себе уже немного переростком: до этого читаешь то, что родители дают, и вот наконец-то самостоятельно находишь что-то интересное. Еще мне очень нравился Евгений Шварц, с которым я не расставался. Любил у него буквально все. Были также два замечательных детских автора Григорий Ягдфельд и Виктор Виткович, которых редко вспоминают сегодня. Я не говорю о Ковале, вообще много кто писал хорошую прозу. У Коваля нравилось почти все: «Недопесок», конечно же «Приключения Васи Куролесова». Еще я очень любил и люблю Евгения Дубровина и его повесть «В ожидании козы». Мы ставили спектакль по ней в театральной студии. Его, наверное, все время долбили сверху, потому что у этой несчастной «Козы» вышло три редакции. Финал повести постоянно переделывали, и, в конце концов, он перестал быть печальным. Дубровин писал трагические книги, а работал при этом главным редактором в журнале «Крокодил». Кстати, благодаря повести «В ожидании козы» я поступил в институт. На вступительном экзамене мне попался вопрос по «Капитанской дочке». Меня, что называется, накрыло. Я позорно начал путать имена: Сашенька, Машенька, Гринев, Гриневич. Я засыпался по полной программе. Но, на мое счастье, вторым вопросом в билете было «Любое произведение советской литературы». Я тут же вспомнил про Дубровина, и случайно оказалось, что педагог, который принимал экзамен, тоже читал эту повесть. Проза Дубровина считалась элитарной литературой, она была мало кому известна, и это нас сразу как-то объединило, что ли. Экзаменатор поставил мне четверку, хотя я в лучшем случае наговорил на тройку. Так я поступил на драму в Институт культуры.
«Франсуа Рабле я начинал читать четыре или пять раз»
Я много читал в институтские годы, а потом (наверное, подсознательно) стал пытаться все это забыть. Сейчас мне кажется, что это была профессиональная защита. Когда начинаешь писать сам, то тебя больше волнует эмоция, ты пытаешься сохранить ощущение ее, а не то, каким путем это было достигнуто. Это относилось не только к поэзии. Из института пришел замечательный Вересаев, которого я тоже прочитал почти всего. У него тоже много любимого. В Вересаеве меня всегда поражало, что вроде бы он изображает какие-то обыденные вещи — ну сидят люди, ну разговаривают, иногда спорят — и почему-то это держит в напряжении.
Франсуа Рабле я начинал читать четыре или пять раз, но почему-то не мог продвинуться дальше третьей главы, какая-то мистика. Причем мне было интересно, хотелось читать дальше, но на третьей главе что-то происходило, и я бросал книжку. Потом я попал в госпиталь, у меня там были три соседа по палате. Одному — лет восемьдесят, он вообще не разговаривал. Второй все время курил и матерился на то, что ему хотят отрезать ногу, а третий — у него было радио с наушниками, и его как бы не было в комнате. Я лежал там две недели, деваться некуда, у меня с собой одна книжка, почему-то именно «Гаргантюа и Пантагрюэль», и я ее наконец-то прочитал. Наверное, звезды сошлись, не иначе.
Когда самиздат уже начал относительно свободно ходить, я прочитал «Властелина колец», «Роковые яйца», помню даже как — на фотобумаге. Это была перепечатка на машинке, сфотографированная и напечатанная в негативе, то есть белые буквы на черном фоне, причем фотографии были не очень большого размера. Не очень-то удобно, но ничего другого не было. Как и для многих людей моего поколения, очень важным текстом для меня оказался «Мастер и Маргарита». Я прочитал его в шестнадцать лет, а потом взял в театральной библиотеке пьесы Булгакова.
Проблема была даже не в том, что нельзя достать какую-то запрещенную книгу, а в том, что трудно было купить вполне разрешенные издания. Попробуй достать, например, булгаковского «Мольера». Хотя он вышел во вполне официальной серии ЖЗЛ — купить его было невозможно, как и двухтомник пьес Булгакова, который существовал, но стоил огромных денег. Многие книги приходилось искать у перекупщиков или в каких-то «особенных» местах. У меня было несколько любимых точек. Главная, конечно, магазин «Старая книга» на Большом проспекте Васильевского острова, куда я ходил и скупал старье, рылся на этих полках. Там всегда можно было найти что-нибудь неожиданное. Я пасся там после школы, если появились свободные рубль двадцать — прикупал какие-то книги. Хотя книг было мало, а денег еще меньше, все-таки купить что-то можно было всегда, пусть и не то, что ты хотел. Были топовые книги, которые менялись на макулатуру, вроде «Королевы Марго» Дюма или «Французской волчицы» Дрюона — это отдельная каста книжек, которые не могли появиться в продаже. Но какой-нибудь «Асканио» Дюма мог запросто попасть в комиссионку. Правда, сито такое было, что людей, шедших сдавать книги, встречали перекупщики и забирали все самое интересное. Но были и те, кто принципиально не работал с ними.
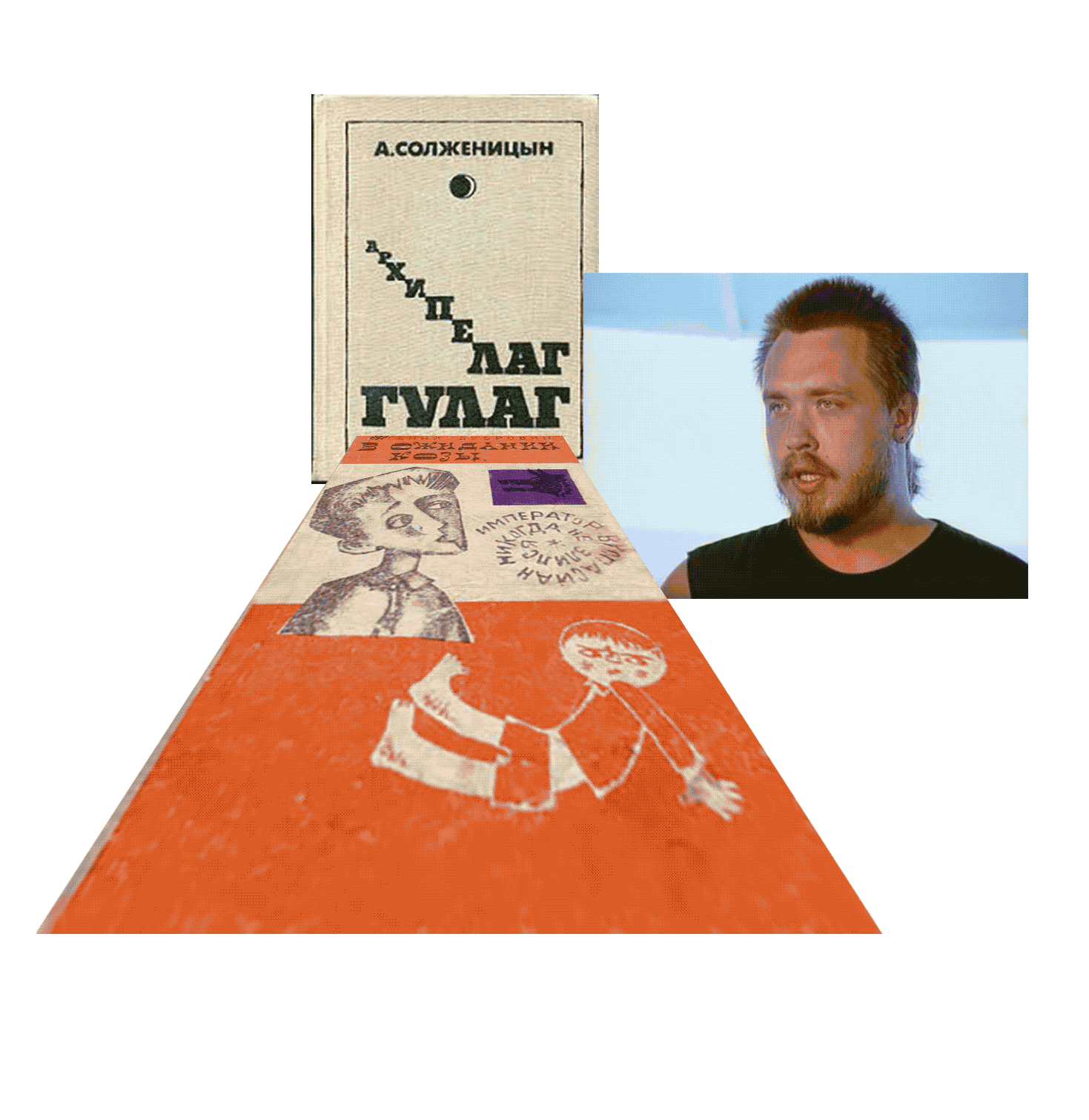
«Сорокин для меня слишком чернушный»
Когда случилась перестройка и хлынули потоки потаенной литературы, не могу сказать, что испытывал что-то такое особенное. Потому что в те дни условия существования воспринимались как данность. Да, не хватало каких-то книг, и это тоже была данность. «Альтист Данилов» вышел? Хорошо. «Удавы и кролики»? Отлично. Солженицына опубликовали? Просто замечательно. Это были условия игры, я не воспринимал происходящее как какой-то прорыв, мне так кажется. Это время порой слишком мифологизируется, хотя, по логике вещей, должно было быть праздником, но как-то так не воспринималось.
Солженицын был важен для меня, но повесть Дубровина оставила отпечаток сильнее и на всю жизнь, именно она стала откровением. Наверное, потому, что я знал, о чем «Архипелаг ГУЛАГ», и когда я прочитал его, не могу сказать, что это как-то перевернуло мою жизнь. Возможно, если бы о нем не велись постоянно разговоры, эффект был бы другой. Но получается, что повесть «В ожидании козы» была для меня важнее «Архипелага ГУЛАГа».
Из русских писателей, ставших популярными в девяностые… Я читал Сорокина, но мне не понравилось. Попалась мне тогда, кажется, «Настя» — было очень неприятно. Наверное, я не понимаю этого автора. Пелевина читал с огромным удовольствием. Любимое его произведение — «Чапаев и пустота», потому что стоит особняком. Дальше все эти приемы немного повторяются в других текстах. Сорокин для меня слишком чернушный, что ли… а Пелевин ближе.
Потом был период, когда я года четыре вообще не читал. Просто не мог, потому что было ощущение какого-то переизбытка. Сначала я пытался заставлять себя, потому что думал: ну как же, я всегда много читал, но в итоге каждую страницу перечитывал помногу раз. Потом начался период «поездного фэнтези», но ни одного из авторов не могу назвать. Там все дерутся на мечах, стреляют, колдуют, все это сливается в одну картину. Это то, что нужно, когда едешь в поезде на гастроли. Читаешь и оставляешь потом на полке. Не жалко.
Сейчас я закачал себе огромное количество Борхеса, потому что основательно все забыл. Наткнулся недавно где-то на фрагмент и понял, что хочу нормально его прочитать, но для этого надо проделать определенную работу: Борхес часто ссылается на Сведенборга, и я понял, что надо и его перечитать. Много читаю с детьми: перечитываю Коваля, «Питера Пэна», Толкина. Получается, что я вновь вернулся к своим же собственным детским книгам.