«От самого слова „канон“ тянет чем‑то пыльным»
Интервью с Дмитрием Колчигиным
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Начнем с самого простого. Как бы вы могли представить новую книгу Курциуса читателям?
— В каком-то смысле это, наверное, самый сложный вопрос. Во всяком случае, он требует хотя бы небольшого экскурса, проясняющего взгляды Курциуса и некоторые аспекты биобиблиографического порядка.
Дело в том, что литературной критике Курциус отводил исключительное место в европейской духовной жизни: именно критика, говорит он в «Европейской литературе и латинском Средневековье», отделяет в море литературы мертвое от живого. Эта функция (в каком-то смысле метафизическая, если не сказать — божественная) резко отграничивает литературную критику от сопутствующих академических дисциплин: от литературоведения, от истории литературы; отсюда — нелюбовь Курциуса к тем, кто «работает критиками», и отсюда же — его не остывающий интерес к критическим размышлениям тех выдающихся авторов, которые сумели встроить критическую мысль в саму «подвижность жизни» (этим оборотом Зиммеля Курциус пользуется в своих «Литературных первопроходцах новой Франции»). Неоднократно в текстах Курциуса (причем как в ранних, так и в самых поздних) можно найти такое утверждение: чтобы в полной мере понять того или иного автора, того или иного поэта или мыслителя, необходимо отдельно рассмотреть его литературно-критические работы. Курциус раз за разом восклицает: как обогатилась бы наша интеллектуальная жизнь, если бы мы всерьез взялись за тему «N как критик»! Под N здесь у Курциуса упоминаются и Новалис, и Фридрих Шлегель, и Гете, и Ницше, и Элиот... Авторы столь разносторонние, что до их литературно-критической деятельности у исследователей далеко не всегда доходят руки.
В какой-то момент случилось так, что в этот же ряд — еще при жизни — попал и сам Курциус: с конца 40-х годов его стали по большей части воспринимать как академического филолога, а временами звучало даже, что он идейно отрекся от своих ранних штудий на поприще современной литературы и ограничился рамками объективистской филологии, словно наложив на себя какую-то епитимию за былую «журналистскую» вольность (именно так писал Лео Шпитцер в концептуальной американской рецензии на «Европейскую литературу»). На деле такие заявления объясняются (по крайней мере, отчасти) недостаточной информированностью: литературно-критическую деятельность Курциус приостанавливал только в гитлеровский период (что во многом объясняется тем, что его просто не публиковали в эти годы за пределами узкоспециализированных филологических журналов: он сам рассказывает об этих ограничениях в послесловии к своему сборнику о «Французском духе в XX веке») и вернулся к ней почти незамедлительно по окончании «Европейской литературы». Более того, он частично воплотил в жизнь свои былые призывы и сам написал, скажем, о «Гете как критике», о месте Т. С. Элиота в британской критической традиции...
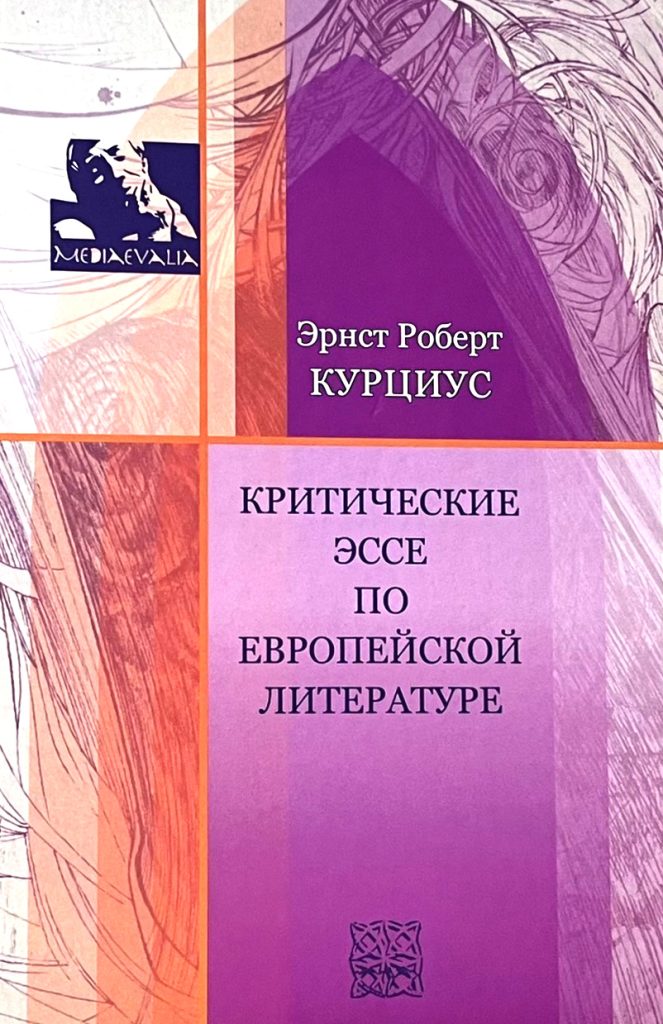 В начале 50-х Курциус на волне новой своей популярности получал предложения о переиздании всех довоенных работ: в значительной части проекты эти не дошли до реализации, но кое-что в сотрудничестве со швейцарским Francke Verlag сделать все-таки удалось. Первым делом, в 1950 году, Курциус подготовил к изданию обширное собрание своих литературно-критических работ за долгие десятилетия: исходный вариант «Критических эссе по европейской литературе». Публикуя этот том сразу после «Европейской литературы и латинского Средневековья» (в том же издательстве, с тем же оформлением), Курциус явно возглашал о целостности, единстве и неделимости двух своих авторских ипостасей: филолог-позитивист не побеждает и не закрепощает критика-интуитивиста, а критик не губит ясную мысль филолога. Материал специально подобран так, чтобы статьи с разницей в четверть века соседствовали и подкрепляли друг друга, чтобы читатель видел не какого-то Курциуса «до» и «после», не какие-то воспоминания с тоской по литературному прошлому, а целостную мировоззренческую картину. В 1954 году Курциус подготовил второе издание книги (русский перевод сделан именно по этому варианту), значительно ее расширив; насколько я могу судить, это вообще единственная книга Курциуса, которая во втором издании оказалась не просто исправлена (как «Европейская литература») и не просто получила новое предисловие (как «Бальзак»), а была дописана и пополнилась новыми крупными разделами. О чем это говорит? О том, во-первых, что Курциус, вопреки молве, активно продолжал заниматься критикой: за четыре года накопился существенный материал, достойный включения в эту программную книгу; во-вторых, Курциус явно хотел, чтобы его критические работы открылись максимально широкому кругу читателей и не оставались каким-то потайным достоянием «толстых журналов».
В начале 50-х Курциус на волне новой своей популярности получал предложения о переиздании всех довоенных работ: в значительной части проекты эти не дошли до реализации, но кое-что в сотрудничестве со швейцарским Francke Verlag сделать все-таки удалось. Первым делом, в 1950 году, Курциус подготовил к изданию обширное собрание своих литературно-критических работ за долгие десятилетия: исходный вариант «Критических эссе по европейской литературе». Публикуя этот том сразу после «Европейской литературы и латинского Средневековья» (в том же издательстве, с тем же оформлением), Курциус явно возглашал о целостности, единстве и неделимости двух своих авторских ипостасей: филолог-позитивист не побеждает и не закрепощает критика-интуитивиста, а критик не губит ясную мысль филолога. Материал специально подобран так, чтобы статьи с разницей в четверть века соседствовали и подкрепляли друг друга, чтобы читатель видел не какого-то Курциуса «до» и «после», не какие-то воспоминания с тоской по литературному прошлому, а целостную мировоззренческую картину. В 1954 году Курциус подготовил второе издание книги (русский перевод сделан именно по этому варианту), значительно ее расширив; насколько я могу судить, это вообще единственная книга Курциуса, которая во втором издании оказалась не просто исправлена (как «Европейская литература») и не просто получила новое предисловие (как «Бальзак»), а была дописана и пополнилась новыми крупными разделами. О чем это говорит? О том, во-первых, что Курциус, вопреки молве, активно продолжал заниматься критикой: за четыре года накопился существенный материал, достойный включения в эту программную книгу; во-вторых, Курциус явно хотел, чтобы его критические работы открылись максимально широкому кругу читателей и не оставались каким-то потайным достоянием «толстых журналов».
Можно сказать, что «Критические эссе по европейской литературе» — это своего рода отражение или преломление «Европейской литературы и латинского Средневековья» (слияние ключевого понятия о европейской литературе в заглавиях двух книг тоже, конечно же, не случайность) на иной плоскости. Все основные темы — западная традиция, литературная преемственность, гуманистическое видение и предназначение европейской истории в целом — так или иначе возвращаются в обеих книгах, пусть и построенных на совершенно разном материале и с разной методикой. В русскоязычной традиции Курциус долгие годы воспринимался почти исключительно как автор одной знаменитой монографии; теперь же, как представляется, перед нами открыта еще одна грань его творческой мысли — так сказать, правое полушарие курциусианства. Пользуясь излюбленной формулировкой самого автора, перед нами «Курциус как критик».
— Сборник называется «Критические эссе по европейской литературе». О том, почему Курциус предпочитает говорить о «европейской литературе», а не о «европейских литературах», мы с вами уже когда-то беседовали. Но каковы границы курциусовской Европы? Предисловие к первому изданию начинается со слов: «О существе поэзии нас лучше всего научает античность вместе с Испанией, Англией и Германией. Но о том, что такое литература, узнать можно только из Франции». Как вы понимаете эти слова? Почему из списка поэтических стран, например, исключена Италия, притом что Данте упоминается буквально на каждой второй странице книги?
— Во второй главе «Немецкого духа в опасности» Курциус рассказывает о выступлении итальянского делегата на праздновании четырехсотлетия Collège de France в июне 1931 года: в своей чисто фашистской речи тот провозглашал, что французские и вообще европейские культурные достижения есть, по существу, наследие и достояние великой Италии, поскольку все это, вроде как, опирается на триаду «Фома / Данте / Леонардо». Курциус называет это симптомом распада латинской традиции и говорит, что отныне культура строится в Европе на попытках мериться силами. Я полагаю, что в предисловии 1950 года Курциус намеренно разделяет литературоведческие традиции (национальные) и собственно литературные — наднациональные, «европейские» в античном или средневековом смысле. Данте он всегда рассматривал как «романского», а не как «итальянского» поэта; он называет Данте «единоличным воплощением западной духовности» и отказывается считать его римское итальянским. В той картине мира, которую отстаивал Курциус, латинское и средневековое в духовном смысле принадлежат Европе, а не национальным государствам; с другой стороны, поэтические теории, то есть само представление о механике стиха, могут быть античными, испанскими, английскими, немецкими. Во Франции сложилось классическое представление о littérature, до сих пор сохраняющее свое значение, — в разрез с исконным смыслом латинского слова, о котором Курциус пишет в «Европейской литературе», — потому Курциус и говорит здесь, что суть литературы (как явления художественной словесности) в наиболее четком своем виде выявляется на французских примерах.
В том же предисловии Курциус с энтузиазмом пишет о Европейском союзе: как раз тогда, в 1950 году, начались первые переговоры о его возможном создании. С уверенностью можно сказать, что современный Евросоюз в его пространных границах к северу и к востоку уже выходит за те пределы, которые Курциус в свое время полагал для «Европы духа». В работах о Гофманстале он говорит об оси Мадрид — Вена, но еще точнее сказано в первом предисловии к «Европейской литературе»: границы единой Европы — это, в общем, римский лимес. Приходится, правда, отбросить ближневосточные и африканские завоевания Рима, но в целом вырисовывается карта по землям Италии — Франции — Испании — Германии — Австрии — Англии. В странах, которые (как Германия) никогда не были романизированы целиком, сохраняются, по Курциусу, внутренние противоречия духовного и политического рода. И наоборот: в сверхнациональном европеизме все эти противоречия снимаются; как Курциус говорит в своей первой медиевистической статье («Jorge Manrique und der Kaisergedanke», 1932): внутри римской идеи у Хорхе Манрике, у Данте и у Гете одна и та же родина.
— А почему в книгу включены тексты о нескольких американцах? Наконец, сложно удержаться от нескромного по нынешним временам вопроса: почему ни разу не упомянут ни один русский или восточноевропейский писатель? На всю книгу, кажется, приходится одно туманное и не очень одобрительное упоминание «славян», от которых «наша литература восприняла... тему добра и ее „рассматривала“; до того схожим образом расцветала тема порочности, принятая от французов».
— К американской культуре и к США в целом у Курциуса на разных периодах складывалось разное отношение. Допустим, в «Гуманизме как инициативе» он утверждает, что Америка (в культурном смысле) относится к Европе «как приложение» и непосредственно соучаствует в идейном развитии единого Запада. Позднее, уже в послевоенные годы, он вывел формулу «латинского Средневековья» как европейского культурного лекала; в этом смысле оказалось, что Америка занимает уникальное положение — в своей американской лекции о «Средневековых основаниях западной мысли» Курциус даже говорит, что Америка постоянно устремлена к «завоеванию собственного Средневековья» и остро переживает эту лакуну в своей интеллектуальной истории; это придает американской мысли особую энергию, особую инициативу страстного искателя. В позднейшие годы, к середине 50-х, Курциус уже замечал, что европейский дух находится между советским молотом и американской наковальней, и в этом смысле экспансивный американский энтузиазм казался ему какой-то «безсредневековой» угрозой.
Все это так или иначе отразилось и в литературно-критических работах Курциуса: в ранней статье (1924) об Эмерсоне так называемое учение о всеединстве раскрывается через многосторонние параллели с Бальзаком; это европейско-американское сродство стало возможным, по Курциусу, в «Америке до американизма», в эпоху гармоничного мышления. Более поздняя (1952) статья об Уильяме Гойене — это практически идеальное зеркало всего того, что Курциус говорит в «Эмерсоне»: Гойен сумел воскресить «гармоничное осознание глубочайшей простоты бытия» (то самое, что было утрачено после Эмерсона), а его писательская культура — европейская по своей природе (она «заставляет вспомнить скорее Флобера, Пруста и Джойса, чем Мелвилла, Вулф или Фолкнера»); одновременно с этим поиском «европейцев» в американской прозе Курциус пишет уже и другое: что европейский критик вряд ли сумеет верно определить место Гойена в американской литературе, что жизнь американского писателя ничем не похожа на жизнь писателя европейского, что нельзя вообще подходить с европейскими мерками к «трансатлантическому сообществу». Переосмысление критического опыта у Курциуса всегда сочетается с верностью первоосновам своего мышления — так и здесь: что Эмерсона, что Гойена наш автор рассматривает в конечном итоге как духовных европейцев. Но само это сродство происходит скорее от многообразия американской интеллектуальной традиции, а не «как приложение», не от культурной зависимости. Здесь, к слову, отмечу, что основные труды Курциуса переведены на английский язык именно в США — не в Великобритании.
Что касается умолчания о русских и восточноевропейских писателях, то здесь можно вспомнить Эриха Ауэрбаха: в XIX главе «Мимесиса» он говорит, что не может рассуждать о русской литературе как таковой, поскольку не читал ее в оригинале. Нынешнему читателю такой аргумент может показаться удивительным, но, вообще, для крупных исследователей он принципиален: говорят они только о том, что оценивают из первых рук, в подлинном виде; в этом смысле русская литература для Курциуса — это экзотика, и упоминал он ее не чаще, чем китайскую или индийскую. Допустим, в статье «Историческое учение Тойнби» он говорит, что об эпохе смутного времени немцы знают по пьесе Шиллера «Demetrius» и по опере «Борис Годунов»: литературный первоисточник этой оперы — собственно трагедия Пушкина — здесь даже не упоминается.
Вячеслава Иванова Курциус называет «русским христианином, наследником Византии». Здесь, пожалуй, проявляется вторая причина, по которой Курциус обходит русскую литературу молчанием: его интересует главным образом литература, имеющая своей опорой латинскую традицию и/или латинское Средневековье; греческое же Средневековье с Византией и ее наследниками — это традиция параллельная и, по Курциусу, не вполне живая (graeca non leguntur). Последнее, пожалуй, можно оспорить, но сам факт непринадлежности к тому, что Курциус называет западным европейством, выводит смежные литературы за пределы его внимания. Примечательно, что того же Ауэрбаха интересовали русские писатели, которые привнесли что-то русское (или условно «византийское») в Западную Европу (Толстой, Достоевский), и совершенно не интересовали «русские европейцы»: допустим, о Тургеневе он пишет просто, что тот «больше брал, чем давал», и более ничего. Курциус, с другой стороны, призывал «сформулировать чистую, внятную идею Запада» на тот, в частности, случай, если восточные (турецкие) или евразийские (русские) соседи захотят в какой-то момент «влиться» в западноевропейскую культуру.
— Есть ли у выбранных автором писателей что-то общее, кроме принадлежности к почти священной для него европейской традиции?
 Эрнст Курциус
Эрнст Курциус
— Да, пожалуй, есть, и это общее — жизненная взаимосвязь с личностью самого Курциуса. Все писатели, о которых он брался рассуждать, так или иначе влияли на его собственное становление, со всеми он так или иначе взаимодействовал за пределами чистой критики. С большинством упомянутых в книге современников он вообще был знаком лично: с Ортегой, Дю Босом, Элиотом, Георге, отчасти — с Гессе, даже с Гофмансталем он немного пересекался (а через Макса Рихнера — и с Джойсом; «Джойс, — пишет Рихнер Курциусу в 1929 году, — был очень впечатлен твоим эссе. „Nouvelle Revue Suisse“ он называет с тех пор лучшей газетой»). Когда речь заходит об авторах прошлого, то они, опять же, играли особую роль в духовной жизни самого критика: Вергилий — первое, еще юношеское причащение к европейской традиции (см. рассказ в статье о Рудольфе Борхардте); Бальзак — книга о нем в свое время широко прославила Курциуса; Гете — воплощение немецкого духа, гений всей курциусовской жизни: любой намек на неуважение к Гете автор «Критических эссе» воспринимал как личное оскорбление (однажды на этой почве он даже впал в раздор с Томасом Элиотом, не говоря уж об известной Jaspers-Kontroverse 1947 года). Очень личным представляется и отношение Курциуса к Фридриху Шлегелю: последнего неоднократно упрекали (причем как современники, так и более поздние исследователи) в излишнем увлечении Францией и вообще клеймили как «плохого немца»; все это Курциус неоднократно слышал в свой адрес — и Майкл Коваль (английский переводчик «Критических эссе») вообще заключает, что Курциус, защищая Шлегеля, отстаивает собственное достоинство; здесь, пожалуй, есть некоторое преувеличение, но определенные ключевые параллели, несомненно, присутствуют. Арнольд Тойнби для Курциуса — тоже фигура перворазрядная; Тойнби, как верил Курциус, сумел привести школу историзма, зародившуюся и расцветшую в Германии, к ее высшим плодам и реальному величию. Эта характеристика тем более впечатляет, если вспомнить, с каким пиететом Курциус неизменно относился к Трельчу и его незавершенному «Историзму».
В целом Курциус как критик писал только о том, что напрямую соприкасается с движущими силами его собственной жизни, и в этом смысле вся плеяда авторов, явленная в «Критических эссе», — это созвездие, под которым родился и жил сам критик.
— Перевод критики — особое занятие, требующее от переводчика в числе прочего некоего такта, умения отстраняться от оценок автора. Вы часто были не согласны с мнениями Курциуса относительно конкретных книг и писателей?
— Практически никогда; читательская культура, живая близость к эпохе и глубокое понимание писательского сознания делают критиков вроде Курциуса едва ли не конгениальными самим авторам. Мнение такого критика — не обязательно решающее, но оно и не бывает ошибочным, не бывает каким-то просто неверным: его в любом случае следует принимать во внимание. Томаса Манна, скажем, возмутило, что в своем очерке о Германе Гессе (1947) Курциус демонстративно опускает все, что связано с политикой, — нацистский запрет на публикацию книг Гессе в Германии и т. п. Но при всем этом Манн вынужденно признает: это лучшее, что написано об «Игре в бисер» (встает вопрос: может быть, потому — без политики — и лучшее?).
Решительно все критические работы, собранные в интересующей нас книге, отмечены как минимум искренним интересом, а как максимум — подлинной любовью к авторам и их книгам. Курциус, впрочем, знал и противоположные чувства, мог категорически не принимать и почти ненавидеть отдельных авторов — как раз здесь у некоторых читателей может возникать непонимание, может зарождаться несогласие: действительно ли Флобер — разложенец и певец мерзостного распада? можно ли сочинения Шпенглера считать образцом интеллектуального убожества? справедливо ли утверждать, что Хайдеггер в своих работах о Гельдерлине изнасиловал поэзию? правда ли, что дантоведческие комментарии Буснелли и Ванделли — это сплошное собрание заблуждений и нелепиц? Полемический задор — одна из неотъемлемых черт характера, проявлявшихся у Курциуса во все годы. Немецкий португалист Альбин Бо написал однажды (как раз в рецензии на «Критические эссе»), что работы Курциуса портит только сарказм, только некое пренебрежение к работе других критиков; впрочем, на мой взгляд, это в большей степени относится к его филологическим работам, а в литературно-критических текстах нечто подобное проглядывает лишь изредка. Во всяком случае, именно такого рода язвительные или радикально-укоризненные замечания обычно и призывают читателя к полемике; в остальном к словам Курциуса можно только прислушиваться.
— А вам как действующему рецензенту близок его стиль и общая критическая стратегия?
— Во многом, как представляется, Курциус неодинаково подходил к жанрам «критического эссе» и собственно рецензии в научно-критическом смысле. В первом случае он с воодушевлением погружался в жизнь и творчество своего автора — делал его по-настоящему «своим»: любая книга или персоналия, удостоившаяся отдельного эссе, становилась для Курциуса частью интеллектуального бытия, каким-то даже сегментом самосознания. Сам Курциус, говоря о Рудольфе Борхардте, называет это творческой критикой (в «Первопроходцах новой Франции» он говорит еще о «жизненной критике» — тоже очень важное для Курциуса понятие!); отталкиваясь от формулы Шлегеля («осмысление осмысления»), он выводит такое определение критики, как литература литературы («форма литературы, предметом которой становится сама литература»). Вот, пожалуй, самый важный аспект: эссеистика Курциуса — это в первую очередь литература; задачи литературного критика — осмыслить, показать, увлечь. Для этого он и сам должен быть увлечен, а предмет критики всегда расценивается здесь как нечто достойное и превосходное.
С другой стороны, свои научные рецензии Курциус строил принципиально иначе: нередко можно заметить, что рецензируемая книга для него скорее повод, некий интеллектуальный стимул, наведший на интересные размышления. Так, например, его статья о «Мимесисе» содержит примерно одну страницу общих замечаний об ауэрбаховской книге и подробное, исключительно богатое по содержанию историко-филологическое рассуждение о теории трех стилей в античной традиции. Рецензию на книгу Роберто Вайса «Il primo secolo dell’umanesimo» Курциус строит следующим образом: хвалит составителя за публикацию редких материалов, а затем называет текстологическую работу абсолютно неудовлетворительной и заново дает приведенную у Вайса стихотворную латинскую переписку двух итальянских гуманистов конца XIII века в своем исправленном варианте и со своими же комментариями. В итоге стратегия Курциуса-рецензента такова: исправить, дополнить, уточнить. Соответственно, под курциусовские рецензии чаще всего подпадали те издания, которые сам рецензент находил в чем-то неудовлетворительными.
Что же касается меня, то основное мое стремление по этой части — уравновесить, хотя бы в какой-то мере, эти два подхода и представить общий обзор рецензируемой книги, не слишком отступая от ее структуры, вместе с какими-то специальными экскурсами, вынесенными в сноски или специальный раздел. В теории такой подход кажется наиболее взвешенным, но на практике, конечно, он может оказаться и тщетной погоней за двумя зайцами; курциусовское разделение на, условно говоря, позитивную критику и негативную во многих случаях может быть предпочтительным.
— При чтении и Курциуса, и героя нашей прошлой беседы, Эриха Ауэрбаха, бросается в глаза, что это совсем другая филология, нежели та, к которой привыкли советские и российские читатели. Ни для того, ни для другого словно вообще не существовало структуралистов и формального метода — ни малейшего влияния Соссюра, Леонарда Блумфилда или Пражского кружка. У вас эта чужесть не вызывала дискомфорта при работе с их текстами?
— Дело, пожалуй, в том, что ни Курциус, ни Ауэрбах не принадлежали ни к какой школе и вообще с сомнением и скептицизмом относились к самой концепции филологических школ. Их работы на стыке филологии, истории литературы и литературной критики приводили в замешательство как критиков предыдущей формации (Бенедетто Кроче решительно ничего не понял в «Европейской литературе и латинском Средневековье» и говорил об этой книге с раздражением, будто злился сам на себя), так и более поздних литературоведов: Рене Веллек, допустим, дает в «Истории критики» очень поверхностное и примитивное описание работ Курциуса, попутно ужасаясь, что их никаким образом не получается соотнести с рамками «новой критики». Разумеется, без схематичных классификаций в современном литературоведении никак нельзя, и поэтому Веллек, колеблясь, обозначает Курциуса в конечном счете как «тематиста» (что должно означать: он писал о тех авторах, в творчестве которых выявляются схожие мотивы). Если уж говорить о классификаторстве американских литературоведов, то гораздо более удачной в этом отношении представляется система Уильяма Кейлина: он выделяет целую группу филологов (Шпитцер, Курциус, Ауэрбах, Беген, Руссе, К. С. Льюис, Маттисен, Н. Фрай) и характеризует их метод как «гуманистическую критику». Все они, говорит Кейлин, занимались преподавательской деятельностью; все они так или иначе подступали к классике; все они интересовались вопросами литературного языка и стиля; все они верили в преобразующую силу книжной культуры; все они жили чувством высокого европейского духа, обретающегося в соединении античного и христианского; по этим критериям, соответственно, их можно объединить как гуманистов в филологическом смысле.
 Дмитрий Колчигин
Дмитрий Колчигин
Здесь нужно еще добавить, что Курциус настороженно смотрел на саму идею о систематизме, формализме, методизме в литературной критике: как он многократно подчеркивал, в основе критического замысла всегда лежит впечатление, а не структура; критика «...метафизически восходит к идее о том, что духовный мир группируется на регионы по принципу сродства» (можно вспомнить слова Рункена: критиком не становятся, а рождаются). При этом Курциус не устает подчеркивать, что «чутье» как таковое, будучи даже первоосновой идейного восхождения, не должно становиться центральной методической опорой (здесь проявляются его ранние и резкие расхождения с Георге и «Кругом»); литературная критика — это бракосочетание филологии и феноменологии, интеллекта и инстинкта, позитивизма и интуитивизма. Книга Курциуса «Немецкий дух в опасности» посвящена интеллектуально-политическим угрозам с двух крайних флангов — левого и правого, — только в центре, говорит Курциус, может выкристаллизоваться конструктивная программа. Этот общий принцип умеренности и соразмерности проявляется у Курциуса повсюду: крайне левый формализм в той же степени разрушает целостность произведения, что и крайне правый метафизицизм. Дисциплинарное доминирование со стороны языкознания или философии для Курциуса неприемлемо: в поздние годы он вообще рассматривал попытки философов вторгаться в область литературы как чистую деструкцию, как объявление литературе войны. Если к этому примешивается еще и «школа», то о критике как «литературе литературы» можно окончательно забыть: возникает чистый самоценный метод, для которого текст — добыча. Скажем, читая бальзаковедческие труды Курциуса, мы многое узнаем о Бальзаке как авторе «Человеческой комедии», а читая бартовскую «SZ» — только о Барте как авторе «SZ».
В целом нельзя сказать, что Курциус не имеет совсем ничего общего с дисциплинарным «литературоведением»: так, статью о Джойсе вполне можно было бы озаглавить «Как сделан „Улисс“ Джойса» (впрочем, тут и сам роман дает все основания к такому подходу); другое дело, что литературоведением этим он никогда не ограничивается; другое дело, что стоит за ним не школа, а скорее традиция (причем не только немецкая, но и во многом, например, британская). В моем представлении это настолько естественно и необходимо, что читательского дискомфорта вызывать просто не может; а обращены эти работы именно к читателю как человеку — «гуманистическая критика»: думаю, Курциус таким определением был бы вполне доволен.
— Страшный вопрос: вам не кажется, что подход Курциуса, основанный прежде всего на понятии о каноне, сегодня безнадежно устарел? Даже попытки такого красноречивого и довольно популярного критика, как Гарольд Блум, реставрировать идею Канона с большой буквы, вызвали у коллег скорее усмешку и непонимание. Говоря иначе: есть ли у канона будущее?
— Я, пожалуй, не вполне согласен с тем, что подход Курциуса в целом базируется на каноне и от этого канона исходит. Да, само понятие, конечно, Курциуса занимало, и многое об этом он пишет в «Европейской литературе»; впрочем, к выводам он приходит следующим: даже святоотеческий канон время от времени обновлялся, даже в Средние века литературный канон не оставался неподвижным, а его позднейшее забронзовение, начавшееся в XVII веке, есть противоестественный результат французской культурной гегемонии; неживые канонические структуры распались с понятием о «мировой литературе», но этот подход обернулся новой напастью: теперь канон оказался критически переполнен абсолютно разнородной, несочетаемой культурной материей. В 1932 году Курциус, говоря о «Переписке из двух углов», целиком солидаризировался с Ивановым и идеей «тезауруса», идеи Гершензона же клеймил как нигилистические, но в последней главе «Европейской литературы» он уже признает релятивную истину «чистой доски»; вместо «храмов вкуса» и «тирании регулярного классицизма», вместо канона как такового он предлагает «дом благолепный» (по Уолтеру Патеру), то есть некую общность творцов, открытую для современников и не подразумевающую обязательного следования каким бы то ни было правилам, образцам, вкусам (по природе изменчивым).
В «Критических эссе» о каноне речи вообще не заходит (слово, правда, встречается в одной цитате из Гете); более того, Курциус говорит, что сам подбор авторов базируется здесь на субъективном, оценочном суждении: о каком-то иерархическом нормировании речи не идет. Череда авторов из «Эссе» тоже говорит против критического канона: наравне со статьями о Гете и Вергилии идут работы о Гильене, Пересе де Айале, Гойене — писателях, которые в рамках канона, скорее всего, считались бы третьестепенными. Рассказывать не о тех, кто интересен критику, а о ком «нужно» — это, конечно, путь в никуда, и у такого канона будущего нет; но Курциус ничего подобного не предлагает. Более того, Курциус, в отличие от Блума, понимал, что от самого слова «канон» тянет чем-то пыльным, если не сказать — мертвенным; отсюда — различные новые обороты, предложенные у Курциуса, отсюда же — эпизодическое и строго контекстуальное употребление этого слова в «Европейской литературе» и почти полное его отсутствие в «Критических эссе». (Есть, стоит добавить, и другой взгляд на этот вопрос: см. статью «Curtius und Auerbach als Kanonbildner» (2001) У. Шульца-Бушгауза, где, как мне представляется, значительно переоценивается значение канона для работ Курциуса.)
Что касается Блума (который, кстати, нашего автора очень ценил), то его «Западный канон» кажется значительно более проблемным: в нем довольно строгие рамки и роли (Шекспир «в центре канона», Сэмюэль Джонсон — главный критик в истории человечества), в нем барочная классификация на эпохи («Аристократическую», «Демократическую» и т. д.), в нем явные следы бесконечно ветвящейся «мировой литературы»... Блумовские списки авторов, распределенных по рангам, действительно выглядят немного комично и чем-то похожи на набросок школьной программы.
В целом, чтобы принять блумовский символ литературной веры, нужно как минимум исповедовать бога-Шекспира, в то время как курциусовский «дом благолепный» подразумевает в первом подходе всего лишь признание одного факта — что в истории западной словесности были какие-то по-настоящему великие фигуры основателей; Курциус, конечно, имел вполне четкое представление о том, что это за фигуры, но в данном случае, формулируя свое представление о «каноне» будущего, он намеренно воздерживается и не называет никаких имен — это очень примечательно; как мне представляется, модель Курциуса жизнеспособна и во всем превосходит блумовскую.
— Думаю, не будет преувеличением назвать главным героем книги Гете: не только потому, что ему посвящены целых три статьи, но и из-за того, что заданные в них темы возникают потом вновь и вновь. Чем Гете был так важен для романиста Курциуса? Это просто дань уважения национальному классику или нечто большее?
— В последний год жизни Курциус говорил, что намерен взяться за отдельную книгу о Гете. К сожалению, плану не суждено было воплотиться, а книга эта, скорее всего, могла бы встать наравне со всем лучшим, что только есть написанного о Гете. Воспоминания Эккермана завершаются, как известно, словами о том, что Гете даже мертвый производил впечатление совершенного человека. Со схожим благоговением к Гете — теперь уже вечно живому — относился и Курциус. Пользуясь теми средневековыми терминами, которые сам же Курциус возвратил в обиход, Гете — не просто auctor, но скорее exemplum, образцовое воплощение добродетели; не просто выдающийся писатель, но пример того, каким может быть и должен быть человек. По Курциусу, Гете своего рода альфа и омега: с одной стороны — это первый выразитель «немецкого» в полном и завершенном смысле; с другой — это последний титан европейской культуры, замкнувший цепочку «от Гомера до Гете». Величайшее, наиболее возвышенное проявление немецкого, таким образом, — это универсальная, общеевропейская мысль; национальных классиков Курциус ставил существенно ниже классиков общеевропейских — а Гете, по его представлению, принадлежал именно к этим вторым («...раз Гете — это последний пример сосредоточения западной духовности в одном великом человеке, то его нельзя считать чисто немецким поэтом: он являет собой нечто иное и нечто большее... Гете стоит бок о бок с Гомером, Софоклом, Платоном, Аристотелем, Вергилием, Данте, Шекспиром»).
 Гете
Гете
В 1932 году Курциус выступил против немецких националистов, критиковавших Гете за то, что он «предпочел римское солнце всем чудесам Севера». Главный дефект немецкого национализма, построенного на обособлении от западноевропейских веяний, — в том, говорит Курциус, что подобный антиевропейский изоляционизм удушает собственно германских гениев: без выхода ко всеевропейскому гуманизму не понять уже «ни Экхарта, ни Лютера, ни Гете, ни Георге». Самозамкнутый национализм антинационален, в то время как Гете воплощает собой немецкий дух и своим же примером демонстрирует, что дух этот универсален и ни в коем случае не огранивается «скудным наследием в рамках государственной границы». Еще в одной из ранних (1922 года) своих статей Курциус провозглашал: Гете научает нас тому, что «Немецкий дух не может ограничиваться нацией и национальностью... он неизменно тяготеет к синтезу всех ценностных элементов духа человеческого, ко всеобщей картине, в которой достижения самых разных народов, их таланты и устремления гармонически соединятся».
В 1949 году Курциус снова защищал Гете — теперь уже от нападок Карла Ясперса (вспомним о центризме как основополагающей черте курциусовского мировоззрения: с одной стороны, центризм этот дарует умеренность и равновесие, с другой — гарантирует конфронтацию сразу со всеми крайними флангами). Ясперсовские придирки, откровенно говоря, выглядят теперь довольно нелепыми (вроде того, что Гете «был непостоянен в любви»), и в целом они порождены нездоровой эпохой послевоенных «развенчаний». Но для Курциуса это был удар по светлой стороне всего немецкого, по тем источникам культурного благородства, через прикосновение к которым подлинная Германия сможет обновиться и возродиться к новой жизни.
— Курциус мимоходом осуждает критика XIX века Ипполита Тэна за его теорию о художнике как выразителе своей эпохи — и, кажется, соглашается с мнением Гете о вечной природе истины, которая уже открыта предшествующими поколениями. В длящейся с XVII века querelle он за «древних» и против «новых»?
— Интересно, что в начале XX века, на очередном витке «спора», новых историков во Франции критиковали за их пренебрежение «древним» Тэном; Курциус рассказывает об этом в своих «Литературных первопроходцах» и приводит рассуждения Шарля Пеги: сам Тэн, говорит Пеги, писал книгу за книгой только благодаря своему умению «забывать» предшественников; без этого развитие останавливается — а старая школа просто выдвигает невозможные требования, которым сама никогда не соответствовала. Курциус, пожалуй, стоял на схожих позициях и многократно отмечал, что превращение «новых» в «древних» — вопрос времени, притом не самого длительного, так что, по мистическим принципам типа «кетер — это малхут» и «что вверху, то и внизу», культурные представления имеют свой завершенный цикл и регулярно возвращаются в исходную точку.
В поздние годы Курциус в какой-то степени склонялся к мудрости «древних» (в данном случае речь о тех, кого просто уже не было в живых), но тем не менее никакой боевой позиции не занимал; по его собственным словам, все дело в возрастных изменениях: у критика, говорит Курциус, в шестьдесят лет появляется некая дальнозоркость, когда «вблизи видишь хуже, а вдали — отчетливее». Есть на эту тему более радикальный афоризм Гофмансталя: «Чтобы увидеть хоть что‑нибудь, нужно сначала вытряхнуть из глаз песок, который туда постоянно надувает современностью». Курциус, как мне представляется, все-таки остановился в нескольких шагах от таких взглядов и, даже будучи в поздние годы «дальнозорким», «вытряхивать» новое не торопился и не стремился. Любопытно, что в той самой querelle XVII века сторону «древних» представлял Буало: по Курциусу, «ограниченный невежда». В целом, отвечая на вопрос о том, за кого Курциус — за «древних» или за «новых», — можно вспомнить один фактоид из «Европейской литературы»: иногда слово neotericus средневековые авторы понимали по-своему и записывали как neutericus — от neuter: «ни то и ни другое»!
— Одно из самых частых и явно значимых слов в книге — «католицизм». Что значило для Курциуса католичество в эстетическом отношении? Можно ли его назвать «католическим критиком»?
— Действительно, в жизни Курциуса очень многое связывалось с католицизмом, напрямую или опосредованно. Еще в молодости, с головой уйдя в исследования французской культуры, Курциус сблизился с влиятельным теологом-неотомистом Жаком Маритеном; в 1926 году — не без участия Маритена — в католицизм обратился друг Курциуса Жан де Менас (впоследствии ставший одним из крупнейших религиоведов Доминиканского ордена); еще один французский друг Курциуса, Дю Бос, то отходил от католицизма, то рьяно к нему возвращался и даже принимал крещение заново; католик Бальзак — одна из центральных фигур курциусовского литературоведческого периода; за французской стадией, кстати, в творчестве Курциуса непосредственно идет испанская — опять же, здесь невозможно было обойти стороной католическую теологию и мистику; римскую церковь как последний бастион западной культуры прославлял Гофмансталь, для Курциуса — один из главных духовных авторитетов; даже Георге, больше склонный к оккультизму, изначально был все-таки католиком и до конца жизни признавал, что в сердце католической церкви еще сохраняются подлинные мистерии; наконец — католическое Средневековье! Этот период европейской истории стал для Курциуса опорной точкой для всех его филологических изысканий. Отдельные критики даже находили, что «Европейская литература» написана с неизменной оглядкой на католическое учение, а молодого Курциуса кто-то — чуть ли не сам Георге! — называл «рьяным католиком». Вот только...
Вот только на протяжении всей жизни Курциус был и оставался лютеранином и вообще происходил из известного протестантского рода: так, Фридрих Курциус, отец Эрнста Роберта, занимал видные позиции (президент коллегиальной администрации) в так называемой Протестантской церкви Аугсбургского исповедания Эльзаса и Лотарингии. О Маритене Курциус писал критически и почти насмешливо; томизм считал разрушительной, вредоносной силой, которая веками противостоит живым европейским энергиям; Бальзака с восхищением называл не католиком, а католическим еретиком; идея Рима в помыслах Курциуса всегда была скорее первохристианско-языческой, чем римско-католической. Уже в начале 20-х годов циркулировали слухи о том, что Курциус якобы обратился в католицизм (что ему приходилось регулярно опровергать в письмах), и даже Андре Жид, близко знакомый с Курциусом, в 1927 году почитал Курциуса за «обращенного» — это ошибка, пишет ему Курциус, «...к Римской церкви я бы никогда не присоединился». Интересно, что Фридрих Шлегель, во всем близкий Курциусу, действительно на французском периоде своей жизни обратился в католицизм: сложно сказать, но, возможно, этот факт тоже как-то поспособствовал слухам 20-х годов. Курциус пишет о конверсии Шлегеля с интересом и пониманием, однако сам на такой же шаг никогда не шел. Примечательно и почти необъяснимо, но в том же письме Жиду Курциус почему-то говорит, что из всех христианских конфессий ему ближе всего англиканство и... православие.
— Вам не кажется, что в этой книге Курциус словно раздваивается? С одной стороны, он постоянно прокламирует верность большой традиции и благожелательно отзывается о проекте культурной Реставрации, а с другой — так жгуче интересуется и так явно любит все новое и современное: Георге, Элиота, Кокто, Джойса?
— Это верно, подобное «раздвоение» вообще для Курциуса типично. Так, в одном из писем 1933 года он говорит: «Я консерватор — и либерал. По нынешним временам: преступник вдвойне». Впрочем, если взглянуть на это иначе, — думаю, именно так это видел сам Курциус, — то речь должна идти о синтезе, а не о раздвоении. Так, в «Гуманизме как инициативе» и в XVIII главе «Европейской литературы» Курциус призывает к своего рода либерально-консервативной идее, которую полностью отождествляет с реставрационной концепцией, тем более что «охранительство без созидания нового столь же бесплодно, как и случайный переворот». Можно вспомнить, что к обоим «полушариям» своего центрального труда (имею в виду, опять же, «Европейскую литературу и латинское Средневековье» на филологическом фронте и «Критические эссе по европейской литературе» — на литературно-критическом: еще одно единство в двойственности!) Курциус предпосылает одну цитату из Сейнтсбери: «Древнее без современного — это препятствие, современное без древнего — это глупость» (и снова, к вопросу о «древних» и «новых»). Тем же настроением проникнута и уже упомянутая идея канона, какой ее видел Курциус: речь всегда идет о структуре, с одной стороны, укорененной, а с другой — очень открытой. Никаких формальных, строгих критериев для всего нового Курциус не выставляет: неизменно подразумевается внутреннее, духовное родство с традицией; родство это (вновь вспомним двойной метод интуиции-рационализации) изначально передается «как искра», на уровне живого восприятия, а затем может быть рассмотрено и подкреплено наукой. Как мы знаем, метод Курциуса всегда подразумевал поиск того преемственного литературного кода, который позволил бы соединять новое с традиционным в едином пространстве континуитета.
— Вопрос, который задавать не хочется, но и обойти стороной нельзя. В статьях конца 20-х — начала 30-х годов Курциус постоянно подчеркивает необходимость восстановления единства Европы на римской основе, обновления традиции, а само это время характеризует как упадочное и, в общем, жалкое. Но ведь все эти элементы (конечно, дополненные многими другими, куда более ужасными) присутствовали тогда и в риторике нацистов. Гитлер твердил, что Германия «объединяет» и «спасает» Европу, про культ Рима в Рейхе вообще написаны целые тома, да и акцент на традиции обычно связывают с правыми политическими силами. Я понимаю, что Курциус имел в виду нечто куда более сложное и уж точно не хотел войны и концлагерей, но его самого не пугали потом эти совпадения? Томас Манн, скажем, очень скептически оглядывался потом на свои статьи, составившие «Рассуждения аполитичного».
— Что касается «Размышлений аполитичного», то это и вправду удивительная страница в творчестве Манна, произведение скорее леверкюновское, чем цейтбломовское. Прославление войны, речи об особом пути Германии, нападки на пацифизм (с демонстративной критикой Генриха Манна, напоминающей отречение от врагов народа) и «эстетствующих» писателей, размежевание с Европой и томление по узконациональному государству... Ганс Йост, будущий нацистский функционер, близкий к Гиммлеру, высоко ценил «Размышления» (что уже многое о них говорит), а в конце 20-х счел опомнившегося Манна предателем великого дела. В поздние годы, кажется, Манн не вполне отрекся от «Размышлений», но, по существу, это произведение мыслителя радикально иного по сравнению с тем Томасом Манном, который нам более или менее знаком — от времен речи «О немецкой республике» и дальше. Когда эта книга, «Размышления аполитичного», вышла на русском языке (2015; перевод Е. В. Шукшиной), то некоторые демократически мыслящие читатели высказывались даже в том духе, что не стоило бы вообще ее переводить, поскольку теперь авторитетом Манна можно будет оправдывать не самые здоровые тенденции в российском обществе. Отчасти с этим можно согласиться: я, правда, думаю, что переводить книгу, конечно, нужно было, но и снабдить ее серьезным культурно-историческим комментарием тоже явно бы не помешало.
В творческой биографии Курциуса, с другой стороны, подобных поворотов и казусов даже близко не наблюдается. От первых своих статей, еще студенческих, и до последних заметок, собранных затем Максом Рихнером, Курциус стоял на одних позициях, в основе своей вообще неизменных; можно, в параллели с Манном, обратить внимание на несколько аспектов.
Если ранний Манн обрушивается на «цивилизацию» как устройство западного мира, препятствующее культуре «Вечного Немецкого», то Курциус толкует этот вопрос в прямо противоположном духе, возвышает «цивилизацию» и примиряет ее с «культурой» до тождества (ср. с самим названием его книги «Die französische Kultur» 1931 года). Ранний Манн с презрением пишет о так называемых Zivilisationsliteraten, говорит, что «это уже почти французы», предатели Германии, желающие ей поражения, потому что их сердце — во Франции («...как далеко может зайти немец в самоотчуждении, в космополитическом самозабвении!») — Курциус, с другой стороны, как раз принадлежал к плеяде авторов-франкофилов и постоянно слышал в свой адрес упреки в недостаточной немецкости, очень похожие на манновскую филиппику. Ранний Манн обрушивается на весь так называемый Запад, призывает немцев отмежеваться от «римского мира», называет Первую мировую войной за культурную самостоятельность, за освобождение от «романской идеи о всеевропейском единении» — Курциус же, как мы знаем, считал эту изоляционистскую доктрину главной бедой Германии, главной болезнью, которую несут ей националисты, в то время как противная автору «Размышлений» идея о наднациональной культуре и общеевропейском единстве для Курциуса всегда была священной. Ранний Манн пишет о «немецкой миссии» и миссию эту усматривает в борьбе против романского мира; Курциус, несколькими годами позднее, разрешает эту же тему в чисто гуманистическом ключе (см. «Немецкую миссию Гофмансталя»). Ранний Манн прославляет столкновение с Антантой, а Курциус (см. его «Кризис университетов») оплакивает немецкую молодежь, «которая истекла кровью при Лангемарке»; здесь, впрочем, два автора изначально находятся в неравном положении: пока Томас Манн подбирал красивые оправдания для Первой мировой, Курциус сам на ней воевал. (А массив его послевоенных статей весь направлен к одной цели — новое взаимопонимание с Францией.)
Повторюсь: немецкий национализм 20-х — 30-х годов, в том числе и национал-социализм, нес на себе печать обособления, культурного разобщения — без намека на панъевропейские горизонты. Это хорошо видно и на примере раннего Манна, осуждавшего любые контакты с Романией, с «англо-саксами» и прочими врагами отовсюду. Идея «нового порядка» (то есть, собственно, покорения Европы) окончательно, насколько я могу судить, сложилась практически на исходе нацизма, уже в годы Второй мировой (причем даже не в первые ее месяцы), и политической доктрине нацизма она не то чтобы имманентна. По существу, это постфактуальное подведение теории под военную доктрину; точно так же и тесные связи с Италией — это, пожалуй, следствие военно-экономического союза, продукт фашистской солидарности, а не какой-то культурно-исторической программы (есть, кстати, интересный сборник «Die akademische „Achse Berlin-Rom“?» (2017), куда входит довольно важная статья Э. -П. Виккенберга о Курциусе 30-х годов).
Есть ли различия между «новым порядком» и курциусовской «Европой духа»? Есть, и немалые: во-первых, говоря о единстве Европы, Курциус всегда имеет в виду единство европейской традиции, нашедшее свое выражение на вершинах литературы, — это культурное (даже не цивилизационное) единство, которое изначально могло быть связано с единством государственным, но теперь уже стало исторической данностью и никак не требует перемещения политических границ (уж тем более насильственного); во-вторых, Курциус никогда не считал Германию духовным центром Европы — напротив, он подчеркивал исторически невыгодное, проблемное положение своей страны и жизненную необходимость духовного космополитизма; никакой расовой или национальной иерархии для единой Европы Курциус — это уж само собой разумеется! — тоже не задумывал, равно как не приходила ему в голову и идея обильно заселять немцами все земли, видимые глазу; кроме того, как мы хорошо знаем, нацистский мировой порядок очень скоро после своего зарождения уже не назывался европейским, поскольку началась экспансия на Юг и Восток: только по одному этому можно заключить, что здесь мы имеем дело не с какой-то культурной программой (пусть даже варварски реализуемой или неверно понятой), а с самым обычным империализмом и захватничеством; что же касается традиционализма как правой идеи — об этом нам уже приходилось говорить: Курциус никогда не был чистым традиционалистом и всегда объединял в себе и своем творчестве традиционалистские устремления с новаторством. Ни с кем из деятелей «консервативной революции» Курциус не был близок (стоит к тому же помнить, что нацистами они в большинстве своем потом не становились! Эволюция того же Манна между 1918 и 1922 годами — яркий пример расхождения Веймарского традиционализма с радикализующимся национализмом), да и само понятие о консервативной революции использовал недолго, и в чисто литературном смысле (вслед за Гофмансталем и его «Писательством как духовным пространством нации») — как объединение двух принципов, охраняющего (консервативного) и обновляющего (революционного), объединение, которое позволило бы примирить классику с модерном.
В целом, европеизм Курциуса настолько далек от национальных и национал-социалистических модусов vivendi и operandi, что, в общем-то, ни в чем с ними не сходится; кроме того, в 1932 году, на пороге гитлеровского захвата власти, Курциус издал единственное свое политическое сочинение «Немецкий дух в опасности», ставшее фактически манифестом нового гуманизма, противопоставленного национализму, социализму и их сплаву как явлению особенно опасному. На русском языке мы уже знаем Курциуса как филолога, Курциуса как литературного критика, а через «Немецкий дух в опасности» нам еще предстоит узнать его как социально-политического мыслителя.
— Книга довольно неожиданно завершается статьей о топосе корабля аргонавтов в европейской литературе, которая выглядит скорее как научная работа, чем как эссе. Какова ее роль в структуре книги? Почему после Унамуно, Эмерсона, Гофмансталя он вдруг возвращается к античности?
— Здесь можно вспомнить, что два последних раздела из «Европейской литературы» посвящены Монтескье и Дидро: Курциус говорит, что он намеренно выходит из области медиевистики в область литературоведения, чтобы показать, насколько глубоко может проникать тема латинского Средневековья. Схожим образом, только с противоположной стороны, построена и заключительная часть «Критических эссе»: от литературной критики Курциус отклоняется в сторону классической топики, демонстрируя таким образом единство и непротиворечивость своего метода.
«Аргонавты» практически одновременно вышли в «Критических эссе» и в первом номере журнала «Romanische Forschungen» от 1950 года; я полагаю, что эту статью Курциус изначально писал именно для книжной публикации, именно с тем, чтобы завершить ею свой литературно-критический монумент; на это указывает следующий факт: в обоих вариантах (журнальном и книжном) Курциус дает перевод всех латинских цитат, чего в специализированном научном издании делать было необязательно, да и не принято (для сравнения: в том же номере «Romanische Forschungen» следом идет еще одна статья Курциуса, «Данте и Алан Лилльский», — и в ней никаких переводов уже нет). Статья, похоже, концептуально задумывалась для подведения некоторых итогов на стыке литературоведения с чистой филологией и предназначалась для широкого круга читателей. На примере одного мотива Курциус показывает: единство литературной традиции — не конструкт и не симулякр, а доказуемый научный факт, всеевропейская преемственность — не счастливый мираж оптимистичного профессора, а череда конкретных заимствований, переосмыслений, преобразований. Странствия специфической смысловой единицы проходят по текстам Аполлония — Энния — Акция — Стация — Валерия Флакка — Клавдиана — Драконция — Иосифа Эксетерского — Жана де Мена — Данте — Кальдерона — Гонгоры — Гете: и это только поэты, в то время как полная цепочка складывается вместе с сочинениями риторов и грамматиков, с народными книгами и историческими компиляциями.
Материал из «Корабля аргонавтов» конкретизирует литературоведческий и литературно-критический замысел Курциуса, подводит эмпирический фундамент под гуманистический проект «европейской литературы» — и сводит «Критические эссе» воедино с на тот момент уже знаменитой ELLMA. Как говорит сам Курциус: «Критика и история литературы... заметно обогащают друг друга. Без упражнений в критике я бы не смог написать своей книги о Средневековье; упражнения в истории, со своей стороны, пошли, как я надеюсь, на пользу моей критической деятельности». Статья об аргонавтах завершается сивиллическими словами из IV эклоги о том, что круг жизни еще обернется, настанет новый Золотой век, «и новый Арго понесет славнейших героев». По такому жизненному кругу проходит и европейская литература, и сама книга Курциуса, также начавшаяся от Вергилия.