«Нельзя зарабатывать на науке и творчестве»
Модест Колеров о своих издательских принципах, науке и идеологии
«Горький» продолжает серию интервью с людьми, стоявшими у истоков независимого российского книгоиздания. Издательская биография Модеста Колерова, историка, общественного деятеля, главреда информационного агентства Regnum, началась еще в Советском Союзе. Мы поговорили с ним о книжном деле в 1990-е, грантовых изданиях и практической философии одиночки.
Издательские проекты Модеста Колерова
Первый научный сборник, «Россия и реформы», я издал еще в советское время, в 1990 году, по итогам истфаковской конференции. Чем занимался тогда, тем и занимаюсь, русской историей, ничего не изменилось. Я работал как составитель тематических номеров журнальных изданий «Знание — сила», работал в издательстве «Путь». Мы сделали несколько хороших книг: в частности, издали единственный аутентичный текст «Истории русской философии» Николая Лосского, а абсолютное большинство того, что было нашлепано в разных изданиях этой «Истории», — советский обратный перевод с английского с массой грубейших ошибок.
Все девяностые я искал исполнителей для своих издательских проектов. Естественно, за свой счет. И в начале 2000-х пришел к выводу, что хватит уже рассеивать пепел над морем, и начал издавать книги самостоятельно, сперва под маркой агентства Regnum, а потом под своим именем. Тут уже и полиграфия подтянулась: когда начался «Русский сборник» [альманах исследований по русской истории — прим. ред.], я подбирал гарнитуру так, чтобы она соответствовала гарнитуре дореволюционного журнала «Русская Мысль», лишь чуть-чуть доработали шрифт. В начале 2000-х было мало издательств, занимавшихся историческими монографиями по узким вопросам, вроде тех, что сейчас выпускает издательство «Квадрига». Мой друг как-то пожаловался мне, что в одном из научных исторических журналов его статью начали нещадно резать — по глаза и по колени. Я ему и говорю: «Слушай, хватит унижаться, шли бы они лесом, давай издадим ее отдельной брошюрой». В результате получилась целая книга Олега Айрапетова «Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию (1907–1917)», очень хорошая, 2003 года. В эту брешь свободной науки вошла огромная энергия, когда можно не унижаться, не попадать под бессмысленную редактуру — когда сидит какой-нибудь дебил, герой всех войн со своим народом, и исправляет «Гитлера» на «пресловутого Гитлера», зачем? А поскольку первая книжка, которую я готовил, вышла в 1990 году в издательстве МГУ, я застал последние пароксизмы советской цензуры, когда сидит буквально никто и вписывает в текст цитату из Ленина. Эта же психологическая суть редактуры до сих пор процветает в старых научных журналах. У меня другая философия: я не влезаю в качественный текст, лишь унифицирую какие-то вещи согласно стандартам, но текст — это дело автора. Если ученый нормальный, если у него во рту, кроме языка, ничего нет, ручки, камушков — то у него все хорошо (сам я пишу тяжело, сейчас редактирую финальный текст книжки про Сталина, над которой работаю уже двадцать с лишним лет, — Сталин меня замучил совсем). Если автор самостоятельно работает с источниками, у него просто нет сил на пустые красоты. Если это действительно исследователь, то на политологию, на культурологию у него нет ни времени, ни сил.
Проблемы научного книгоиздания
Я с самого начала 1990-х был профессиональным книжным редактором и поскольку работал еще и в архиве, где мы готовили документальные публикации, то текстологическую архивную работу знаю с молодости. Как только появились материальные возможности издавать книги, я стал этим заниматься — не для бизнеса, разумеется, потому что бизнеса тут нет и быть не может. Бизнес в современном научном или качественном книгоиздании может делать только продавец, и то за счет широты ассортимента: если у продавца ассортимент не большой, а просто средний, то ему конец. Он живет за счет ассортимента, а издатель живет либо за счет грантов, либо за счет благотворительности, потому что если бы я продавал книжки по себестоимости, а не ниже ее, то они бы стоили в два раза дороже и продавались бы наверняка в два раза хуже. Кроме того, время изменилось, и я пришел к выводу, что теперь, с появлением технологии print on demand, вообще должна измениться сама философия книгоиздания: теперь нужно печатные книги делать представительским библиотечным тиражом, а остальное — в сеть. А если кто хочет — то может купить у тебя или получить бесплатно pdf и напечатать хоть на золоте. Тогда и книга сохраняется как культурный факт, и доступность ее вырастает. Я поставил эксперимент в 2009 году: издал свою книжку, которую тут же выложил полностью в интернет, и дал новость об этом. В первые два дня ушло на реализацию пятьдесят экземпляров от тиража, а прочли книгу две с половиной тысячи человек. В том числе из Канады и Новой Зеландии — для бумажной книги это недостижимо ни при каких обстоятельствах. Но если бы не была разрушена советская система книгораспространения, то нынешний объем рынка качественной литературы был бы гораздо больше, абсолютно в этом убежден.
В 1983 году вышла книжка Алексея Лосева о Владимире Соловьеве. Про нее рассказывают, что кровавый режим в борьбе против Соловьева запретил ее продавать в Москве и отправил тираж в провинциальные магазины. Напечатали шестьдесят тысяч экземпляров, я у себя в Тульской области на родине ее увидел, купил. Шестьдесят тысяч ушло без следа! Малюсенький, изданный в серии «Мыслители прошлого», довольно экстремальный текст (там про сатанинский хохот — в общем, на любителя, да и Соловьев тогда не был культовой фигурой). А сейчас объем рынка качественной литературы в России считается в 2000–2500 экземпляров для одной книжки. В Москве продается около 1200 экземпляров, в Петербурге — 200–400, остальное — вся страна. Но это ничтожное количество связано только с системой доставки. Я глубоко убежден, что если бы была работающая и рентабельная система доставки в регионы, то тираж в пятьдесят тысяч — это просто отдай. Вот, например, я выпустил хорошую книжку, она неплохо пошла — «Ранение, болезнь и смерть: Русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг.» Юлии Наумовой. Так получилось, что я нечаянно напечатал двойной тираж, но он все равно разошелся. Ну и что вы думаете? На такую тему, такая хорошая книжка, она ведь стольким людям нужна. Я был когда еще в украинском Крыму, и там в сфере турсервиса узнали про эту книжку — всех заколбасило просто. Представляете? В Крыму бы она везде продавалась вместе с сигаретами, это ведь краеведение тоже. Но доставки нет и не будет, поэтому мы играем в интернет.
1/2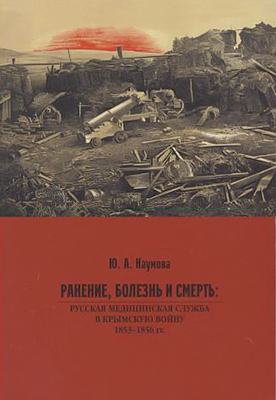 2/2
2/2 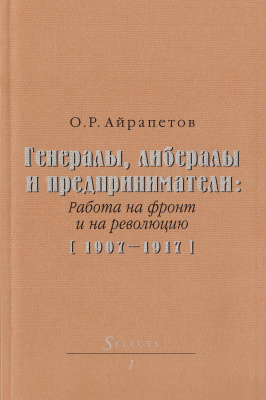
О девяностых
В девяностые никаких препятствий для книгоиздания не было: типографии были нищие, готовы были печатать что угодно, массовой культуры книгоиздания не существовало. Все делалось на коленке даже там, где появлялись хорошие качественные издания. Их можно и сейчас увидеть: они архаичны по верстке, напечатаны на туалетной бумаге, с тесным шрифтом и так далее. Но что было хорошо поставлено в то время, так это то, что с самого начала было понятно, — издание качественной литературы не бизнес, зарабатывать на этом никому в голову прийти не могло. И это хорошо, такая психология мне нравится.
Продавалась научная литература в 1990-е гораздо больше, чем теперь, конкуренции не было. Качественная литература самого забубенного направления была очень востребована. Но это связано с тем, что нельзя было пойти, как сейчас, в более-менее приличный магазин и просто купить Хармса. А сейчас приходится делать новый качественный шаг. Никаких идиотских Scopus'ов не было, систем оценки, которые придумали для себя химики и физики, а применять их к гуманитарным наукам заставили культурологи и политологи, то есть бывшие «научные коммунисты». В девяностые было много партизанщины в хорошем смысле слова. И это нормально. Другое дело, что сейчас это выглядит кривобоко с точки зрения полиграфии. Тогда образцом для нас были простейшие западные славистские издания: толстая бумага, мягкая, но суровая охровая обложка — и это было хорошо. Что мы могли тогда противопоставить этим изданиям? И тогда как раз одними из первых мощно выступили Игорь Савкин и Олег Абышко со своим петербургским издательством «Алетейя»: они первые в то время начали делать научные книги в твердой обложке, с тиснением, и это было прекрасно. А мы часто делали очень бледно.
Валерий Анашвили и «Логос»
Я работал всегда один, но я благодарен «Логосу» и Валерию Анашвили, с которым мы довольно много лет общались и которому я помогал. Мы сошлись на интересе к истории русской философии. Люди сегодня не понимают реальный вес и культурный вклад Анашвили. Он кажется человеком мягким и непотопляемым, но его непотопляемость — результат его совершенно фантастического таланта, он умеет находить новые средства и возможности. То, что он продолжает издавать «Логос», это уже подвиг, так долго выходит такой серьезный журнал. Но главное, что он сделал, — иное: я помню, когда в 1999 году началась война в Югославии, он посвятил тематический номер «Логоса» Косово, то есть поступил как нормальный французский публичный философ. Просто влез в актуальность, и это было успешно. В тогдашней еще Югославии и потом в Сербии тексты из «Логоса» вошли в хрестоматию мировой публицистики о Косово. Это было громко, это было хорошо. Это — жест: вместо того, чтобы контрабандой протаскивать ленточки разного цвета в свою науку, ты выходишь на прямое высказывание. Но твое прямое высказывание не должно ограничиваться агиткой или лозунгом. «Логос» успешно соединял его с философской повесткой, философской мыслью — это его главное достижение: русская философия — оригинальная, переводная, исследовательская, благодаря Анашвили стала актуальной впервые после 1920-х годов. Нельзя считать советскую философию актуальной, она проходит по разряду «палки-копалки», а не актуальности. И это сделал Анашвили, безусловно. Попытки наших славянофилов и замороченных постмодернистов изображать что-то актуальное — фуфло. В этом не было системного усилия, в отличие от «Логоса». Разумеется мне 80% объема журнала не нравится, но нельзя не признать этих достижений. Нынешние же дети «Логоса», третье поколение, еще не достигли зрелости прямого высказывания, прямого выстрела, когда ты не боишься идейно раздеться, ибо у тебя есть что-то за душой. А когда ты как культуролог-политолог прячешься в чужие формулы — все же видят, что ты пытаешься просто скрыть собственное ничтожество, а тебе самому нечего сказать. Анашвили рисковал, и он победил.
Книжные магазины
Еще одно величайшее достижение нашей современной культуры — существование интеллектуальных книжных магазинов, причем не только в Москве и в Петербурге. Например, сейчас есть отличный магазин в Воронеже, «Петровский» называется. Огромный — может быть, из-за каких-то некоммерческих соображений аренды. Я с удовольствием провел там два часа, поскольку этот магазин может позволить себе выставить ассортимент за последние пять-шесть лет — то, чего никто не может сделать в московских магазинах. И пропущенное за эти годы там можно увидеть — просто надо ездить в Воронеж и смотреть, что ты пропустил. Такие места существуют, несмотря на совершенно чудовищное, истребительное, вытаптывающее влияние сетевых книжных магазинов и узкого сетевого ассортимента, которое касается не только нашей территории — я видел в Баку такую же ерунду. В России сетевые магазины убили университетские магазины, университетские издательства, специализированные и краеведческие издательства. Насмерть. Это составляет огромную задачу — найти местные издания где-нибудь в России, даже в городах-миллионниках.
О грантовых изданиях
Вероятно, чисто демографически большинство из нас еще в начале 2000-х годов были мальчишками для старой науки и для старого книгоиздания, нас не видели в упор и сделали большую ошибку, потому что прошло меньше десяти лет и оказалось, что, кроме нас, никого нет. Вообще. А все прежде надутые щеки, амбиции, связи, претензии ничего не стоят. Есть много достойных, выдающихся исследователей, но у них нет системы, инфраструктуры знания. Можно сравнивать это с немецкой университетской моделью, при которой практически полностью отсутствует независимая наука, разве что Слотердайк и Саррацин независимые. В России, к счастью, университетская наука, убитая и министерством образования, и советским наследием кафедрального начальства, сама ушла с поля научной конкуренции и теперь не задает стандарты — ни книгоиздательские, ни исследовательские. Борьба идет и в книгоиздании, и, соответственно, в содержании изданий — между неорганизованной гражданской активностью нас, обычных людей, и жесткой танковой дивизией под разными знаменами фондов и грантодателей. Вот настоящая борьба где: фонды и грантодатели политически ангажированы, у них есть своя команда писателей, и они, конечно, бьют нас. Они лупят нас по щекам. Потому что мы — это партизанщина. Но они очень скоро, лет через десять, исчезнут как репутационный фактор, потому что их предсказуемость уже смешна. Я, например, не хотел бы ввязываться в дискуссии по поводу глобального сочинения Александра Эткинда о колонизации. Но он сам поднял планку, когда начал рекламировать свою книгу очень оригинальным способом, заявив, что на свое сочинение получил самый большой в истории Оксфорда грант. Ну молодец, самого Остапа Бендера победил. Никакого научного смысла его сочинение не имеет. Зато все исполосовано лентами пропаганды.
Упомянутая выше «Алетейя» для меня гораздо более существенное явление научной культуры, чем «Corpus» и прочие красивые и толстые грантовые издания. У меня пункт — практическая философия одиночки, а наше общество измучено нарзаном дореволюционной и советской идеологичности. Партийность эту хорошо Черномырдин охарактеризовал, говоря о партийном строительстве: «Что ни делай, все КПСС получается». Это партийность — отвратительная, вонючая, сектантская, когда ты начинаешь как редактор исправлять тексты под себя, подвергать их идейной унификации, показывая, что и у тебя, мыслителя, где-то есть партийный обком. У кого-то обком, например, в Тарту. У кого-то обком в секте Льва Гумилева. Это ужасно. В самом обществе, в науке мы имеем дело с крайним дефицитом гуманитарной свободы: просто не с кем разговаривать вне определенного круга. Стоит большого труда найти авторов по гуманитарной тематике, которые бы обеспечили простое ремесленное качество. Есть люди, которые внешне уже выросли, но я прекрасно помню, как я им отказывал за низкое качество. А сейчас они великие, и я знаю почему. Потому что высшее гуманитарное образование умирает, и входной билет в качественное знание стал еще более дорогим. Раньше нужно было подвижничество, поголодать, но посидеть в библиотеке, в архиве. Сейчас к этому добавилось то, что нужно знать западную литературу хорошо, чтобы ты не считал, как провинциал, каждое переводное издание заслуживающим внимания. Нужно иметь мужество не обращать внимания на западную пропаганду и макулатуру, равно как и на отечественную. Но для того, чтобы не обращать внимания, нужно быть в высшей степени подготовленным человеком.
Я недавно встретил молодого историка революционного движения, левого по убеждениям, который собрался ехать в Америку на какой-то грант, чтобы продолжать заниматься наукой. И он меня поразил своим настроем получать деньги за занятие тем, что ему нравится. А для людей моего поколения, которые выросли за свой счет, издают книги за свой счет, гробят свое время и нервы в университетском преподавании с этой маразматической макулатурой отчетности, такого вопроса не было. Для нас наука — это служение. И так должно быть. А если для тебя наука — это вопрос «дадут тебе грант или нет», так это — «чего изволите». Сегодня тебе дадут один грант на одну тему, завтра другой — на другую. Сегодня одно «изволите», завтра — другое. Единая научная биография из этого выстраивается с трудом. По крайней мере, люди нашего поколения вынуждены были рассчитывать на свои силы и страсть к свободе была важнее. На каких бы разных мы сейчас политических позициях не стояли, это именно мы стоим. Даже сорокалетние мальчишки, которые сейчас ходят с разного цвета ленточками и погружены в эти гранты, не могут понять всей меры нашего выбора. Мне они представляются смешными пропагандистами.
Как заниматься наукой сегодня
К счастью, есть хорошая молодежь, но пропорция действующих хороших исследователей моего, среднего, превращающегося уже в старшее поколение, и молодых — плохая, два к одному. Два наших на одного молодого. А это очень плохо. Деньги у них есть, гранты у них есть, они со студенчества в Германии учатся, знают больше языков, чем мы знаем. Казалось бы, живи сам, программистом работай, например, и занимайся наукой. Есть прекрасные образцы научной работы среди людей, которые находятся в бизнесе, но либо профессионализировались, либо сохранились как историки. Есть Николай Симонов, историк советской промышленности. Он на какое-то время пропал, бизнесом занимался, достиг независимости и сейчас выпускает работы по истории экономики, великолепные издания. Есть Алексей Исаев, формально не историк войны, но автор с высокой профессиональной репутацией. Я не специалист по этой теме, но могу судить как потребитель. Я могу навести справку по его работе, не рискуя, что там мне дохлую кошку подложат.
Нельзя зарабатывать на науке и творчестве. Пастернак говорил Вознесенскому, как тот вспоминал: «Не вздумай зарабатывать литературным трудом». Так и в науке тоже — не вздумай зарабатывать наукой. Как можно преподавать и заниматься наукой в нынешней системе массового производства отчетной макулатуры? Я искренне считаю тех, кто сохранился как ученый в нашей университетской системе, подвижниками.
Одиночки, идейная ангажированность и позитивизм
Я счастлив, что прочитал «Братьев Карамазовых» и «Анну Каренину» в 23 года, когда уже был более-менее обученным историком. Естественно, я смог оценить ту половину текста «Анны Карениной», которая не про лямур, и тогда она мне показалась самой интересной. Не все знают в силу специфики истории литературы, что Достоевский и Толстой — гении не только художественные, но и политические гении, что в наших нынешних политических хитросплетениях никто из них никакую ленточку не носил бы. Они все ленточки видали в гробу. Достоевский о Балканах, Достоевский про поляков, против всего Петербурга 1863 года, против абсолютного большинства аристократии, бюрократии и так далее. Потому что история отношений России и Польши, начиная с Александра Первого — это история невзаимной любви. Русские обожали поляков, а поляки в значительной степени считали русских баранами. Взаимности не было. И когда Муравьев начал подавлять восстание 1863 года, он был почти политическим одиночкой. Но входной билет в этот контекст такой дорогой, что дети не могут оценить гений Достоевского и Толстого, а в школе читать это действительно нельзя, к сожалению.
Наша национальная культура чудовищно ангажирована политически и идейно, какой-то сплошной Бердяев. Ни от кого правды не добьешься, никто на самом деле правду не написал о том, что было. Когда все грохнулось в 1917 году, все начали врать кто во что горазд. Со всех сторон. Вся история русской мысли, которая хоть как-то описывает историю старой России, — это огромный набор лживых показаний о том, что «я ни при чем». Вся без исключения. Наконец, рано или поздно, когда научные люди начинают читать газеты того времени, у них волосы на голове шевелятся. История России — Атлантида в кубе, в десятой степени, непрочитанная, неизвестная, неретранслированная, замолчанная самими участниками.
Я очень надеялся в течение последних двадцати лет на совесть либерализма. Что они, получив ресурсы, возможности, выросшие на медной копейке своего народа, начнут что-то отдавать. Ничего не отдают. И точно также я в душе надеялся, что если рукопожатные соберутся втроем, они сделают что-то иное, кроме партийной ячейки, — нет, не делают. Посмотрите, как их много, этих фондовых и грантовых институтов. Опять одно и то же: склоки, интриги, партийность, агитки. А где продукт? Грантовая технология, грантовая философия заставляют писать только отчеты и макулатуру.
А у нас, повторяю, Клондайк, Атлантида величайшая, там можно на танке ездить по неоткрытым материалам. Так всего много, столько можно всего порассказать. Люди же никогда не знают, что будет завтра, они живут так, как они есть. Вот эта жизнь a la prima — самое главное. Без вранья. У меня есть иллюзия, что можно хоть чуть-чуть снизить долю вранья. А когда ты идешь против вранья, ты уже не будешь поклоняться ни одному, ни другому, ни третьему, ни четвертому. Это выглядит как крайний бескрылый позитивизм, но, по крайней мере, партийного позитивизма я никогда не видел. Он невозможен.
О «Горьком»
Честно говоря, «Горький» не получается пока. И знаете, почему? Он остается тусовочным. Вот ты хоть усрись, но так это. Нужно больше … [дикости]. Нужно больше сумасшедших.