«Московский концептуализм — продукт позднесоветского роста цен на нефть»
Интервью с Алексеем Конаковым
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— В «Убывающем мире» анализируются и сопоставляются два параллельных плана: первый — развитие советского «невероятного» от стремления разгадать все тайны космоса и до увлечения оздоровительными практиками, то есть в сущности собственным телом, и второй — становление в СССР криптобуржуазного потребительского общества по мере исчезновения надежд на близость коммунистической утопии. Мне кажется, не помешало бы рассмотреть заодно еще один план — экономический, ведь потребление в те годы едва ли могло существенно вырасти без брежневской нефти.
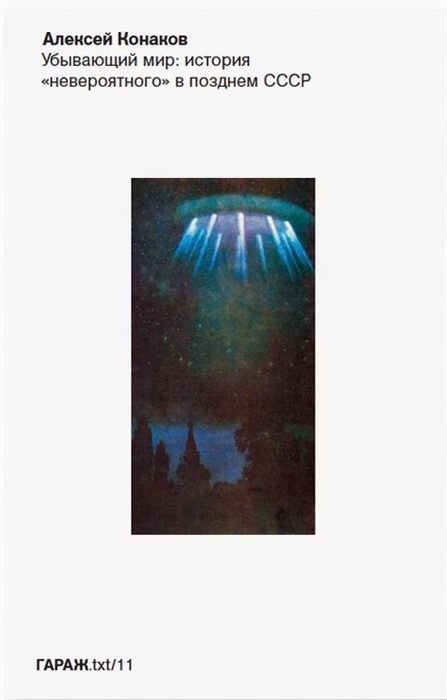 — Я согласен с тем, что рост потребления в позднем СССР был напрямую связан с последствиями нефтяного кризиса 1972 года. В страну пошел поток нефтедолларов, и люди, соответственно, стали больше потреблять товаров, больше покупать вещей.
— Я согласен с тем, что рост потребления в позднем СССР был напрямую связан с последствиями нефтяного кризиса 1972 года. В страну пошел поток нефтедолларов, и люди, соответственно, стали больше потреблять товаров, больше покупать вещей.
Одним из ориентиров в работе над «Убывающим миром» для меня была знаменитая книжка Алексея Юрчака о «пространствах вненаходимости», но если, по мнению Юрчака, эти пространства были свободны от идеологии, то я считаю, что они заполнялись идеологией криптобуржуазности. Вторая значимая книга, которая меня направляла — это «Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era» Натальи Чернышевой (к сожалению, она пока не переведена на русский язык). На мой взгляд, эта работа позволяет по-новому посмотреть на поздний СССР: Чернышева показывает, что в нем сложилось по-настоящему развитое потребительское общество. Я же, благодаря изучению советского «невероятного», обнаружил, что потребление в те годы во многом было связано с оздоровительными практиками. Выбор обычных потребительских товаров был в СССР невелик, зато в плане нетрадиционных способов оздоровления поздний социализм предлагал людям широчайшее разнообразие: можно было лечиться и чайным грибом, и мумиё, и голоданием, и посредством десятков дыхательных техник. В некотором смысле это был субститут обычной потребительской культуры, доступный почти всем: купить автомобиль многие не в состоянии, зато омагничивать воду или принимать скипидарные ванны может каждый. Наверное, если бы не было ограничений по объему книги и по срокам ее сдачи, я бы дополнил исследование экономическим контекстом, поскольку он действительно важен. С другой стороны, возможно, не так и плохо, если читатель достроит этот ряд самостоятельно и увидит за обилием оздоровительных практик рост потребительской культуры, а за потребительской культурой, в свою очередь, угадает экономические изменения.
— А если добавить в твою схему еще один культурный ряд, историко-литературный, можно ли будет проследить в нем ту же эволюцию, что мы видим и в потреблении, и в «невероятном»?
— Наверное да, особенно если брать какие-то крайние точки: например, лейтенантская проза, которая писалась после войны, отражает один из полюсов советской культуры — милитантность, характерную и для послевоенного «невероятного». Поздняя же советская проза, как мне кажется, совершенно другая — в ней больше внимания уделяется частной жизни. Вероятно, ключевой фигурой тут мог бы оказаться Юрий Трифонов: с одной стороны, он критически относится к обывателю, обменивающему в 1970-е некие коллективные ценности на личный комфорт, а с другой стороны, он в деталях описывает материальную фактуру быта, уделяет ей немало внимания и относится к ней с известной нежностью. Другой автор, сразу приходящий на ум, — Владимир Орлов. Помню, какие я испытывал ощущения, когда читал роман «Альтист Данилов», самую популярную советскую книжку 1980 года: она начинается с приема гостей, там сразу возникают какие-то жостовские подносы, расписная хохлома, заваривается чай, и весь этот вещный мир наваливается на тебя — буквально чувство тошноты возникало от упоения автора позднесоветским комфортом. Поэтому мне кажется, что в литературе можно увидеть ту же тенденцию: растущее стремление людей к спокойной, криптобуржуазной жизни.
— Вероятно, проводить параллели между потреблением и нетрадиционными оздоровительными практиками гораздо проще, чем между потреблением и литературой: литература ведь гораздо разнообразнее, чем мумиё и лечение чайным грибом, она складывается из множества частных стратегий, сообществ...
— Думаю, чтобы разобраться в этом вопросе, нужна целая исследовательская программа. Я убежден, например, что московский концептуализм — это продукт все того же роста цен на нефть. Кажется, Илья Кабаков говорил, что самым главным богатством в 1970-е был избыток свободного времени, а появился этот избыток именно после 1972 года. Идет активная продажа нефтепродуктов по высоким ценам, технологии и продовольствие СССР может покупать на Западе, и уже не требуется тотальной мобилизации общества, никто не едет ни на какие всесоюзные стройки. Как вспоминал о своей жизни Пригов: он приходил на работу, делал отметку о прибытии, после чего на весь день уезжал в библиотеку заниматься самообразованием — и так продолжалось несколько лет. То есть обычным гражданам экспорт нефти позволял покупать условные жостовские подносы или даже стоять в очереди на автомобиль, а Кабаков, Пригов и Рубинштейн превращали обеспеченное нефтью свободное время в особые произведения, названные потом концептуальными. То есть само появление московского концептуализма — примета возникновения потребительского общества.
Мне в этом плане кажется очень показательным пример Льва Рубинштейна. Он ведь читал свои стихотворения не с листа, а с карточек, то есть в сам метод их чтения была имплантирована трата времени: ты берешь карточку, подносишь к глазам, читаешь одну строку текста, откладываешь карточку, берешь следующую и так далее. Нужно очень много времени, чтобы прочитать такое стихотворение: если бы оно было записано просто на листе, выходило бы гораздо быстрее. Соответственно, нужно больше времени и для того, чтобы слушать эти стихи. Получается такая библиотечная практика неспешного перебирания карточек из каталога, когда ты даже не ищешь ничего конкретного, просто наслаждаешься самим процессом. Вообще, повсеместная передозировка свободным временем очень многое объясняет в культуре той эпохи.
— «Убывающий мир» заканчивается на минорной ноте — тем, что «невероятное» после падения СССР выродилось в обычный масскультовый нью-эйдж. Но, как мы знаем, современный нью-эйдж тотален, многолик и вездесущ, даже люди с образованием порой не стесняются гадать на картах Таро, и очевидно, что благодаря этому многие феномены советского «невероятного» до сих пор в том или ином виде продолжают существовать и остаются востребованными. В чем тогда состоит принципиальное отличие советского «невероятного» от ньюэйджевского?
— Я для себя отвечаю на этот вопрос так: основные акторы в сфере советского «невероятного» надеялись понять и объяснить любые загадки и чудеса, оставаясь на строго научной почве. Например, Кашпировский очень подробно объяснял эффект от своих сеансов: это «внутренние резервы», а не волшебство (при этом само понятие «внутренних резервов» появилось в работах академика Николая Амосова). Джуна тоже настаивала на том, что лечение наложением рук не имеет никакого отношения к магии. Словом, почти все советское «невероятное» существовало в рамках большой научной дискуссии, которая велась на довольно высоком — зачастую даже на государственном — уровне. Но в постсоветских «невероятных» практиках научность в лучшем случае имитируется: мне кажется, наука стала в них просто еще одним маркетинговым ходом. Я очень люблю слушать «Радио России» и радио «Маяк», где то и дело рекламируются приборы, которые лечат от всего. И там постоянно используется один и тот же стандартный маневр: в 1980-е годы советские ученые разработали этот прибор для армии или космоса, он был засекречен, и вот сейчас он приходит на рынок. Авторитет СССР как страны, где изобреталось что-то удивительное, ореол секретности вокруг военных и космических разработок используется теперь для коммерческой рекламы. Мне кажется, что у людей, которые в наши дни делают снимки ауры или нечто подобное, нет задачи объяснить, как это работает. Но раньше «невероятное» функционировало не так: при всех завихрениях и паранойе советские исследователи действительно стремились познать тайны Вселенной и придерживались более-менее научного курса.
Наверное, стоит еще сказать пару слов о действительно слегка меланхолическом финале книги [«Так — не взрывом, но всхлипом — кончается „советское невероятное“ со своим экспансионизмом, энтузиазмом и напряженным ожиданием научных прорывов. Оно убывает, уменьшается, скукоживается, как шагреневая кожа, — чтобы в постсоветскую эпоху на его место пришли соразмерные любому мелкому буржуа мистика, эзотерика, оккультура и нью-эйдж». — Прим. ред.]. Вероятно, здесь слышно эхо исследовательского разочарования: мне было интересно проследить (не в рамках книги, а просто для себя), как развивались дальше те «невероятные» линии, которые описаны в книге, исчезли ли они полностью или где-то что-то осталось, однако у меня ничего не вышло. Дело в том, что после 1990 года в сфере «невероятного» появляется огромное количество текстов, масса переводной литературы, возникает множество мелких издательств-однодневок — происходит количественный скачок, масштаб увеличивается в тысячи раз, и ты стоишь перед этим океаном источников и понимаешь, что жизни не хватит, чтобы в нем сориентироваться. Меланхолия последних строк книги в том числе отсюда: океан оказался слишком большим.
— Перейдем ко второй книжке. Для меня она с самого начала стала настоящим открытием: позднесоветская неофициальная литература меня не особо интересует, поэтому о Евгении Харитонове я знал только то, что он был большой экспериментатор, отщепенец и гомосексуал, после смерти сделался культовой в узких кругах фигурой, а собрание его текстов выходило в издательстве «Глагол» — вот, в общем, и все. И вдруг выясняется, что это совершенно уникальный персонаж, ни на кого не похожий, выходец из киношно-театральных, а не литературных кругов, что он учился у Михаила Ромма, дружил с Высоцким, занимался театральными постановками, защитил диссертацию о пантомиме, а в литературе был не только радикальным новатором, описавшим детально и с предельной откровенностью жизнь советского гей-подполья, но также ультраконсерватором, и при этом очевидным образом повлиял на многих авторов из числа тех, которые сегодня пользуются максимально широким признанием — в отличие от самого Харитонова.
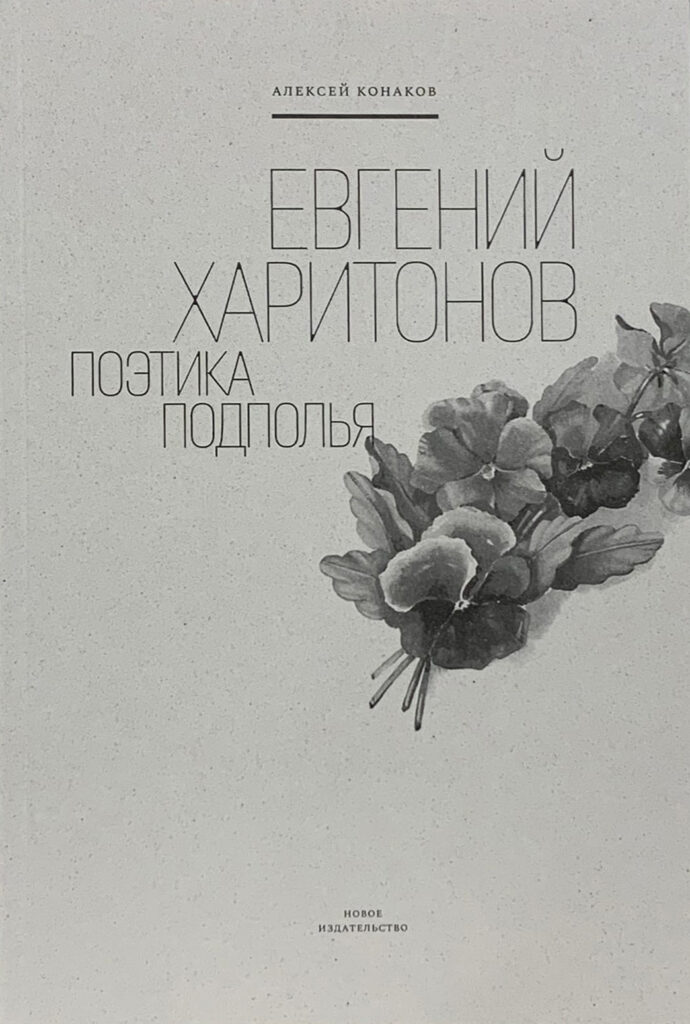 — Его полузабытость действительно примечательный факт. Можно привести такую аналогию: представим, что на дворе 1922 год, читающая публика прекрасно знает Пушкина, Чехова, Толстого, Блока и т. д., но при этом никто ничего не знает о Достоевском. Мне кажется, с Харитоновым похожая ситуация: по уровню своего влияния и силе текстов он — что-то вроде Достоевского второй половины XX века. Он существует как-то подспудно, его влияние расходится в самые разные стороны, хотя мы зачастую не догадываемся об этом. Например, Харитонов — один из создателей русского верлибра: множество современных поэтов, пишущих свободным стихом, так или иначе используют его находки, относящиеся к концу 1960-х — началу 1970-х. Синтаксис харитоновской прозы очевидным образом повлиял на целый ряд авторов, от Людмилы Петрушевской до Александра Ильянена. Есть и более тонкие моменты: мы видим, Елена Коренева как танцует в «Сибириаде» Кончаловского — этот танец поставил Харитонов; мы слушаем интервью с Павлом Лунгиным, и Лунгин говорит внятно — от заикания он якобы лечился у Харитонова. Работа Харитонова с группой «Последний шанс», которой он помогал разрабатывать сценические движения, как мне кажется, могла повлиять на знаменитый перформанс «Аквариума» в 1980 году в Тбилиси — ленинградские рокеры с 1979 года ездили в ДК «Москворечье» и наверняка видели поставленные Харитоновым для «Последнего шанса» номера. Как бы то ни было, Харитонов — фигура, которую в определенном смысле еще только предстоит открыть.
— Его полузабытость действительно примечательный факт. Можно привести такую аналогию: представим, что на дворе 1922 год, читающая публика прекрасно знает Пушкина, Чехова, Толстого, Блока и т. д., но при этом никто ничего не знает о Достоевском. Мне кажется, с Харитоновым похожая ситуация: по уровню своего влияния и силе текстов он — что-то вроде Достоевского второй половины XX века. Он существует как-то подспудно, его влияние расходится в самые разные стороны, хотя мы зачастую не догадываемся об этом. Например, Харитонов — один из создателей русского верлибра: множество современных поэтов, пишущих свободным стихом, так или иначе используют его находки, относящиеся к концу 1960-х — началу 1970-х. Синтаксис харитоновской прозы очевидным образом повлиял на целый ряд авторов, от Людмилы Петрушевской до Александра Ильянена. Есть и более тонкие моменты: мы видим, Елена Коренева как танцует в «Сибириаде» Кончаловского — этот танец поставил Харитонов; мы слушаем интервью с Павлом Лунгиным, и Лунгин говорит внятно — от заикания он якобы лечился у Харитонова. Работа Харитонова с группой «Последний шанс», которой он помогал разрабатывать сценические движения, как мне кажется, могла повлиять на знаменитый перформанс «Аквариума» в 1980 году в Тбилиси — ленинградские рокеры с 1979 года ездили в ДК «Москворечье» и наверняка видели поставленные Харитоновым для «Последнего шанса» номера. Как бы то ни было, Харитонов — фигура, которую в определенном смысле еще только предстоит открыть.
Я, конечно, признателен Александру Шаталову и Ярославу Могутину, которые в 1993 году издали двухтомник с текстами Харитонова и мемуарами о нем, однако считаю их подход весьма своеобразным: они загнали Харитонова в своего рода субкультурное гетто. Основной тезис Могутина и Шаталова заключался в том, что он был до смерти напуганным московским геем, который сидел в своей квартире «под домашним арестом» и боялся, что за ним придет советская милиция. Такой образ существует до сих пор, но он не вполне соответствует действительности. На самом деле Харитонов был достаточно активен, водил массу знакомств и вообще деятельно распространял свое влияние в самых разных областях культурной жизни.
Еще следует заострить внимание на том, что Харитонов использовал самые авангардные литературные техники (вы найдете у него и заумный язык, и какой-то хитрый монтаж, и поток сознания, и по синусоиде напечатанные слова), но при этом все его тексты — удивительно внятные, удивительно чистые эмоционально. То есть, когда читаешь условного авангардиста-концептуалиста, бывает не вполне ясно, о чем вообще идет речь. У Харитонова же все выкручено на полную громкость: страх — это страх, радость — это радость, тоска — это тоска. Он берет именно этой совершенно потрясающей чистотой эмоций. Понятно, когда подобное присуще писателям-реалистам, но в случае Харитонова мы читаем вроде бы темный, герметичный, технически изощренный текст, а чистота эмоций в результате только усиливается. Этот эффект, наверное, самый важный и самый поразительный.
— Каковы литературные истоки его поисков и новаторства, можно ли проследить какой-то генезис харитоновского стиля?
— В разговорах о генеалогии его стиля уже сложились определенные клише. Практически все, кто пишет о Харитонове, вспоминают Василия Розанова. Харитонов действительно любил и ценил Розанова, сама форма его поздних вещей к Розанову отсылает — небольшие фрагменты, которые, как в «Опавших листьях», соединяются один с другим, складываются в некий короб. Игорь Дудинский прямо называл Харитонова «советским Розановым», и в комментариях Могутина это общее место. У раннего Харитонова можно найти вещи, похожие на Пруста — тягучий синтаксис и так далее. Вообще, у него был довольно оригинальный для тех времен круг чтения: он ценил все немного маргинальное (в противовес «интеллигентскому мейнстриму» эпохи — вроде Набокова или Цветаевой), читал Добычина, Хармса. Кажется, Пригов писал, что от Харитонова узнал о Егунове (Андрее Николеве). Плюс Джойс и Оскар Уайльд. В принципе, из этих фигур — Розанов, Джойс, Уайльд, немного Михаила Кузмина — можно сложить, как мозаику, стиль Харитонова. Но лично мне это кажется не очень интересным подходом. Гораздо любопытнее продемонстрировать, как на его стиль повлияли совсем другие вещи: то, что Харитонов жил в большой державе, был провинциалом, столкнулся с Петровкой, 38, где ему угрожали унизительной экспертизой на предмет мужеложества, и так далее. Такие влияния были гораздо более сильными, чем простое чтение других авторов; в книге я попытался показать это на конкретных примерах.
— А собственно литературное окружение у Харитонова появилось уже после того, как его стиль в той или иной степени сложился?
— Сначала он писал довольно традиционные рифмованные стихи, а общался в основном со своими новосибирскими друзьями-поэтами (Иван Овчинников, Александр Денисенко, Анатолий Маковский). Потом Харитонов переходит на свободный стих, и тут, вероятно, сказалось влияние его друга Вячеслава Куприянова, который тоже был родом из Новосибирска, работал в Москве и одним из первых вместе с Владимиром Буричем начал разрабатывать русский верлибр (ну и чтение Кузмина сказалось, видимо). Потом, уже где-то к середине 1970-х, Харитонов через авангардных художников выходит на круг московских концептуалистов, на условного Пригова, и начинает писать, по всей видимости, с учетом той работы, которую вели концептуалисты. У него в текстах появляется особый взгляд со стороны, он привыкает «отлипать» от собственного повествования. Конечно, связи Харитонова с концептуализмом не вполне очевидные, но они точно были на уровне контактов, бесед. Очевидно, он учитывал опыт этих авторов, а они наверняка что-то брали у него. Но опять же, харитоновское письмо, в отличие от усредненно-концептуалистского, всегда очень страстное, эмоционально внятное, и читать его интереснее, чем, скажем, прозу Пригова.
— К слову, насчет концептуалистов: интересно, а как они воспринимали творчество Харитонова того времени, когда он в том же радикальном ключе — и словно бы на полном серьезе — начал писать тексты похлеще классических передовиц газеты «Завтра»? Как реагировали на это Пригов с Сорокиным?
— Действительно, особенность поздних текстов Харитонова, самых его сильных и уникальных произведений, заключается в том, что там сочетаются удивительные, крайние темы. Например, подпольная гомосексуальность (когда ты рискуешь в любой момент попасть под уголовную статью), и в то же время — восхищение мощью Советского Союза, пылкое православие, восхваление Сталина, вера в еврейский заговор. Получается совершенно гремучая и разнородная смесь. Вопрос в том, было ли все это связано с реальными взглядами Харитонова-человека — или это был чисто литературный проект, устроенный таким образом, чтобы как можно сильнее зацепить, спровоцировать читателей, вызвать у них какие-то сильные реакции? Вероятно, и то, и другое. И многих читателей это действительно цепляло. Кого-то задевали фрагменты, посвященные однополой любви — Харитонов очень резко увеличил физиологичность описаний в какой-то момент, кого-то страшно оскорбляли откровенно антисемитские выпады. Так или иначе, но поздний Харитонов сумел создать идеальную литературную машину для провоцирования сильных читательских реакций, конструкцию, которая, как еж, топорщила свои иглы во все стороны: если не одно, то другое должно было подействовать практически на любого. Кажется, только самые искушенные концептуалисты вроде Пригова или Сорокина могли не реагировать (в человеческом, «наивном» смысле) на такие тексты — указывая, что это просто слова на бумаге, литература, и не надо видеть в ней ничего личного.
— Они действительно так считали или это был способ ухода от вопросов о том, с кем они вообще якшаются?
— Мне почему-то кажется, что Пригов и Сорокин действительно так считали. Во всяком случае, разграничение Харитонова-автора и Харитонова-человека они, каждый по-своему, проводили убедительно и уверенно: мол, тексты текстами, а сам Женя — прекрасный человек. А вот люди, которые (в отличие от Пригова) были хуже знакомы с Харитоновым или (в отличие от Сорокина) не учитывали уроков концептуализма, могли реагировать на харитоновские тексты очень бурно. Есть мемуарные свидетельства о том, как разные читатели топочут ногами, чуть ли не с кулаками бросаются на Харитонова... Думаю, он именно этого и добивался.
— Твои тексты выгодно отличаются от многих современных исследований на схожие темы, которые зачастую напоминают по стилю механический перевод с английского, а ты, как мне кажется, пишешь скорее как хорошие позднесоветские гуманитарии — просто, прозрачно и строго по делу. Есть ли какие-нибудь образцы или ориентиры, удерживающие тебя от соблазна перейти на зубодробительный волапюк?
— Когда-то я был откровенно очарован переусложненным стилем. Помню, мне однажды попалась какая-то книжка невысокого полета, условный «справочник по постмодернизму», и я читал ее как стихи: «обморок говорящего субъекта», «машины желания», «тело без органов»... Сразу захотелось какую-нибудь сказку написать, используя такой язык. Преодолеть это очарование удалось лишь спустя какое-то время. Насчет прозрачности собственного письма у меня нет особых соображений, но, возможно, это связано с техническим образованием: по основной специальности я гидроинженер. Концепты полезны, когда занимаешься, например, историей философских идей, но у меня всегда был именно инженерный интерес: понять, как устроен текст, как он работает. Наверное, можно сказать, что я стараюсь описывать тексты и исторические сюжеты как своего рода машинки — хочется разобраться в принципах их функционирования, а потом просто и понятно эти принципы изложить.
Кроме того, в свое время меня очень вдохновил пример петербургского философа Михаила Куртова, который начинал с анализа кино, обращаясь к неизбежному Жилю Делезу, но в какой-то момент, кажется, почти полностью отказался от использования французской теории. И хотя Куртов по-прежнему отслеживает все теоретические новинки, сам он использует теперь совершенной другой инструментарий, разработанный самостоятельно, здесь и сейчас, на основе русского языка: у него становятся концептуальными такие понятия, как «простор», «смекалка» и т. д. Это прекрасный подход: изобретать свои собственные мыслительные инструменты — при этом новые термины совсем не обязательно должны быть экзотическими, главное — чтобы они работали.
— В некоторых твоих статьях прошлых лет много внимания уделяется материальным условиям письма и их воздействию на форму и содержание того или иного текста, но в обсуждаемых нами исследованиях эта методология не сыграла существенной роли. Ты от нее отошел или дело просто в особенностях материала?
— Я по-прежнему большой поклонник такого подхода. Мне кажется, он нередко позволяет высветить то, чего иначе мы бы просто не увидели. В книжке про Харитонова этот подход применяется при анализе текста «Роман»: я отталкиваюсь там от метафоры скальпеля и от практики разрезания (и последующего склеивания) бумаги. Другой пример — «В холодном высшем смысле», последнее харитоновское произведение: его довольно сложно понять, если не учитывать, что текст этот создавался на печатной машинке — автором, всю жизнь писавшим только от руки. На мой взгляд, вся стилистика этой вещи выводится из шока, который испытывает писатель, впервые севший за машинку.
— В ходе нашего разговора у меня мелькнула вот какая мысль: если мы видим, что для Харитонова взаимодействие с представителями официальной культуры было не менее важным, чем общение с нонконформистами, и что делить его творческую биографию на официальную и подпольную части особых оснований нет, то не указывает ли это на возможность создания единой истории позднесоветской литературы, в которой авангардисты будут фигурировать наравне с членами Союза писателей и лауреатами госпремий? Ведь, с одной стороны, мы явно недостаточно хорошо понимаем всю глубину и сложность взаимодействия двух этих сфер, а с другой, сама по себе «разрешенная» литература была, как известно, не такой уж монолитной — порой в ней появлялись даже такие странные вещи, как «Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова или «Белка» Анатолия Кима, явно шедшие вразрез с общепринятыми нормами.
— Мне очень нравится эта идея — надеюсь, что такую единую историю русской литературы кто-нибудь когда-нибудь напишет. Однако следует учитывать региональную специфику: насколько я понимаю, в Москве действительно существовало множество различных сообществ, представители которых постоянно общались и взаимодействовали друг с другом, и поэтому не было четкой границы между литературой любительской, неофициальной, и литературой Союза писателей. Те же Пригов с Харитоновым в конце 1970-х организовали писательский клуб в надежде на то, что им разрешат выпускать альманах, а среди его членов были Евгений Попов и Евгений Козловский, общавшиеся с Аксеновым и Ахмадулиной. Все было очень близко — стенка в стенку, дверь в дверь. В Ленинграде же ситуация отличалась, граница проводилась гораздо четче. У неофициальных ленинградских писателей была собственная развитая инфраструктура — свои журналы, своя премия, поэтому их существование было более изолированным (хотя наверняка и там хватало связей с официальными литераторами). То есть на материале Москвы написать единую историю проще, и этот подход будет более продуктивным и правильным, а в случае Ленинграда надо смотреть, не окажется ли такая история искусственной. Хотя мне хотелось бы видеть общую историю советской литературы без разделения на официальное и неофициальное: раньше такое разделение было вполне продуктивным, но теперь, подозреваю, превратилось в способ зарабатывания символических капиталов.
— А кто из официальных позднесоветских литераторов кажется тебе наиболее интересным? Кому, на твой взгляд, уделяется недостаточно внимания, кем нужно заниматься?
— Пожалуй, в первую очередь стоит назвать уже упоминавшегося выше Юрия Трифонова: это действительно большая величина, хотя пишут про него теперь редко (и я даже не очень понимаю, читают ли его сегодня вообще). Мне очень хочется понять позднесоветское время, я пытаюсь подступиться к этой теме с разных сторон и, в общем, убежден, что без Трифонова тут не обойтись: надо садиться, перечитывать его, разбираться, чем он был для читателей тогда и что он может рассказать нам сейчас. Кроме того, мне кажется, что на позднесоветскую эпоху важно посмотреть через тексты детских писателей — во времена застоя очень многое делалось для детей. В значительной степени это связано все с той же криптобуржуазностью советских граждан: для любого буржуа культ семьи и детей — одна из основных направляющих в жизни. В застойные годы создавалось много сильной детской литературы, но, насколько я знаю, в нашей гуманитаристике эта тема исследуется не очень активно (хотя есть ряд прекрасных работ). Среди прочего важно, что детская литература была как раз тем пространством, где сходились вместе члены Союза писателей и авторы-подпольщики вроде Генриха Сапгира или Олега Григорьева, то есть именно в этом поле можно с наибольшей наглядностью показать единство позднесоветской литературы. Поэтому к Юрию Трифонову надо прибавить, например, Юрия Коваля: сидеть и читать «Васю Куролесова», «Недопеска», «Самую легкую лодку в мире».