«Истина посередине не потому, что она там валяется, а по законам физики»
Александр Гаррос — о новой книге, советской матрице, фейсбучном шуме и рыбной ловле
Тексты, вошедшие в книгу, — это большие журнальные репортажи, или даже очерки. Написаны они относительно недавно. И вот мы с вами разговариваем в сентябре 2016 года, а такой жанр в российских изданиях уже невозможно представить, его как бы и нет. Непонятно, кто вам закажет историю про Курентзиса размером с небольшую книжку, для кого вы могли бы ее написать.
Я бы сказал, что и тогда — четыре, пять, шесть лет назад — это было какой-то флуктуацией. Чуть более распространенной, чем нынче, но тем не менее. Был журнал «Сноб», для которого я писал, было еще три-четыре таких места. А мест, где за это платили, как в «Снобе»…
Было ноль.
В общем, да. Я уж не знаю, что там с баснословными, много раз описанными доходами нашего руководства… Но я единственный раз в жизни работал с зарплатой, которая приближалась аж к пяти тысячам долларов, и в конце месяца у нашего семейства не только не было долгов, но, напротив, еще и что-то оставалось. Совершенно небывалое — ни до, ни после — ощущение… Не скажу, что единственный раз в жизни мне так повезло, но единственный раз мне дали с минимальными препятствиями и за очень хорошие деньги заниматься делом, которое мне нравится и которое, как мне казалось, я умею делать так, как я хочу это делать. Литература, не литература, но, по крайней мере, это тексты, за которые мне не стыдно. Обычно бывает так: либо ты занимаешься делом, которое тебе интересно, и тебе за него не платят, либо более-менее неинтересным, за которое платят хорошо. Это было приятное совмещение денег, свободы и результата. Если серьезно, таких мест всегда было мало. Но, насколько я понимаю, в Штатах сейчас пошла новая волна моды на лонгриды…
Волна есть, но для изданий это очень редко бизнес, скорее важная вещь в смысле репутации: мы не просто собираем списки со смешными фотографиями котят, мы тоже серьезные журналисты…
…кирпичи культуры укладываем. Я не специалист, не медиамаркетолог и вообще не то чтобы каждый день встаю с этими мыслями, но я думаю, это происходит еще и потому, что в более продвинутой технологически западной цивилизации уже найден способ непрямой монетизации таких вещей. Понятно, что губило лонгриды на Западе и в большой степени губит у нас: то, что места, где могут такое заказать, оплатить и напечатать, сами стали вымирать, как мамонты. Толстых глянцевых журналов с рекламодателями за миллионы долларов стало меньше, мягко говоря.
По крайней мере, стало ясно, что лояльность рекламодателя совершенно не зависит от того, есть у тебя серьезный репортаж на двадцать страниц или нет. А если его нет, это сильно сокращает расходы.
Понятно, что интернет сильно подкосил такие вещи. Какое-то время совершенно невозможно было представить, что так называемый продвинутый читатель, перейдя в интернет, вообще будет читать длинные тексты. Ну сколько было людей, которые могли сидеть за огромным стационарным компьютером, пялиться в монитор и читать текст на 50 000 знаков? Теперь это стало проще — можно в телефоне читать и не чувствовать никакого дискомфорта. Я думаю, такие чисто технологические вещи довольно большую роль играют. Но играют и социокультурные, и политические. У нас, в России, в этой области все меньше, дешевле…
…быстрее умирает и дольше рождается.
Кое-что еще и убивают нарочно. А уж вымирание лонгридов — это так, сопутствующая вещь.
Людей, способных прочитать длинный текст, становится меньше, но есть и другая проблема: становится меньше людей, которые способны длинный текст написать. Даже в лучшие времена таких людей было примерно столько же, сколько и изданий, которые могли эти тексты заказать. Это же довольно специальное умение. Вы где этому учились? Вы читали, не знаю, The New Yorker, расписывали, как устроен текст, по абзацам?
Я вообще нигде ничему толком не учился, я человек неученый, дикий — и таким помру. Я, конечно, читал иногда The New Yorker, но мне редко удавалось дочитать что-нибудь до конца. Английский мой и в лучшие времена был не таков, чтобы читать свободно десятками страниц. Мне было лень. Читал я всегда много, но в основном по-русски, благо есть чего. Вообще, я считаю, что единственный способ чему-либо научиться в журналистике и литературе — много читать и много об этом думать (и самому при этом делать, конечно). В 90-е я читал все, от газеты «Сегодня» до газеты «Завтра», ну и потом, конечно, журнала «Афиша». И, не будучи тогда знаком, скажем, с Дмитрием Быковым или там Денисом Гореловым (я с ним и до сих пор не знаком), думал: вот же, блин, офигенно круто. И тоже хотел так уметь. И если чему-то научился, то вот таким способом и методом проб и ошибок.
А сегодня в русскоязычных медиа вам что-нибудь интересно читать? Где бьется, так сказать, живое русское слово?
Для меня все эти медиа существуют как некая единая окрошка, из которой я выдергиваю то, что мне интересно: либо по именам, либо по темам, либо просто по текстам. Текстов, которые я читаю с удовольствием и интересом, много. Хотя их становится меньше — по крайней мере, в любимых мною жанрах. Я люблю читать хорошие рецензии. Может, они еще появятся, но сейчас их, в общем, почти ноль. Люди, которым я бы сам с удовольствием деньги платил — тот же Рома Волобуев, Лев Данилкин, — они все занимаются чем-то другим. И в этом тоже несовершенство технологий. Я уверен, что людей, которые готовы были бы еженедельно платить Данилкину, чтобы он продолжал писать про литературу, достаточно много, чтобы Лев жил, ни в чем себе не отказывая. Я в этом абсолютно убежден. Но вот — не работает.
Мне тоже кажется, что эта громоздкая редакционная модель, в которой есть что-то для ублажения рекламодателей, что-то для чтения, что-то просто потому, что так деды придумали 100 лет назад, и грустно с этим расставаться, должна в какой-то момент смениться прямым общением. Есть писатели, которых я боготворю, я бы с радостью перечислял им процент от зарплаты просто за то, чтоб они писали.
А мы движемся в эту сторону потихонечку. Не только журналистика, но и искусство, по крайней мере — литература как искусство, не требующее громадной и дорогой технологической машины (в отличие от кино). В чем-то эта форма очень архаична: такие бродячие менестрели, если поешь хорошо — тебя накормят и, может, еще в дорогу что-то с собой дадут. А если херово поешь, то могут и пинками выгнать. Для меня как для человека советского воспитания, это даже в чем-то печально. Хорошо жить, получая зарплату, и ни в чем себе не отказывать. Но вектор такой, что делать.
Грустно, что пока единственным выражением этой благодарности оказываются лайки.
Грустно, что пинка уже дать могут, а денег пока нет. Это правда.
Вообще, фейсбук с точки зрения словесности насколько для вас важен? Не было ли ощущения, что именно там должны расцвести сейчас сто цветов? Появляются же книжки, собранные из фейсбучных статусов.
Честно скажу, у меня такой иллюзии никогда не было. Я фейсбук воспринимаю как слепок жизни, поэтому никого не баню, если только не начинают совсем уж жестко хамить. Лента у меня состоит наполовину из каких-то странных людей, иногда жутких отморозков — это такое увеличительное стекло, и то, что я через это стекло вижу, мне очень часто не нравится. Я стараюсь с некоторых пор как можно реже ввязываться в дискуссии. Физических сил и времени не так много, и не хочу я их на это тратить. Интересно это бывает? Да. Хорошо написано? Тоже иногда да. Но, как правило, это какой-то шум, причем не белый.
Я тут перечитывал круглый стол, который собрала «Афиша» десять лет назад, такой сбор представителей нового литературного поколения. Назывался «Это мы, Эдичка». В этом было традиционное афишное преувеличение, но ведь поколение действительно состоялось. Насколько вам помогало то, что вы существуете в литературе не в одиночку, а в составе какой-то банды? И что от этой банды осталось сейчас?
От нее осталось мало что, потому что мало что и было, если честно. Я себя тоже не могу причислить к действующей литературе — в лучшем случае я лейтенант запаса. Мне кажется, что и тогда это было очень искусственное объединение. И люди разные, и поколения как такового не было, потому что… Не знаю. Можно два часа проговорить, почему одни поколения получаются, а другие нет, и ничего не понять все равно. Но мне кажется, что его не было. Было некоторое количество людей, у которых был общий драйв, и какая-то часть общего драйва времени вылилась в литературу. Но это были ребята даже постарше меня или Ани Старобинец. С кем-то из них я до сих пор дружу и считаю своими единомышленниками, невзирая на политические расхождения. Есть Андрей Рубанов, которого я нежно люблю. Два года назад мог бы сказать это и о Прилепине, но теперь не скажу по понятной причине.
Для вас есть черта, за которой политические разногласия перевешивают литературные или дружеские связи?
Дело даже не в политических разногласиях. Я не могу сказать, что я к Захару стал относиться плохо, — вовсе нет; и пусть у него все будет здорово, и «Обитель», например, отличный роман… Просто для меня есть некая сумма проступков и преступлений против здравого смысла. Есть вещи, которых делать нельзя. Иногда по этическим, а чаще даже — по логическим причинам. Когда критическая масса подмен и передергиваний накапливается, мне становится как минимум трудно относиться к этому всерьез.
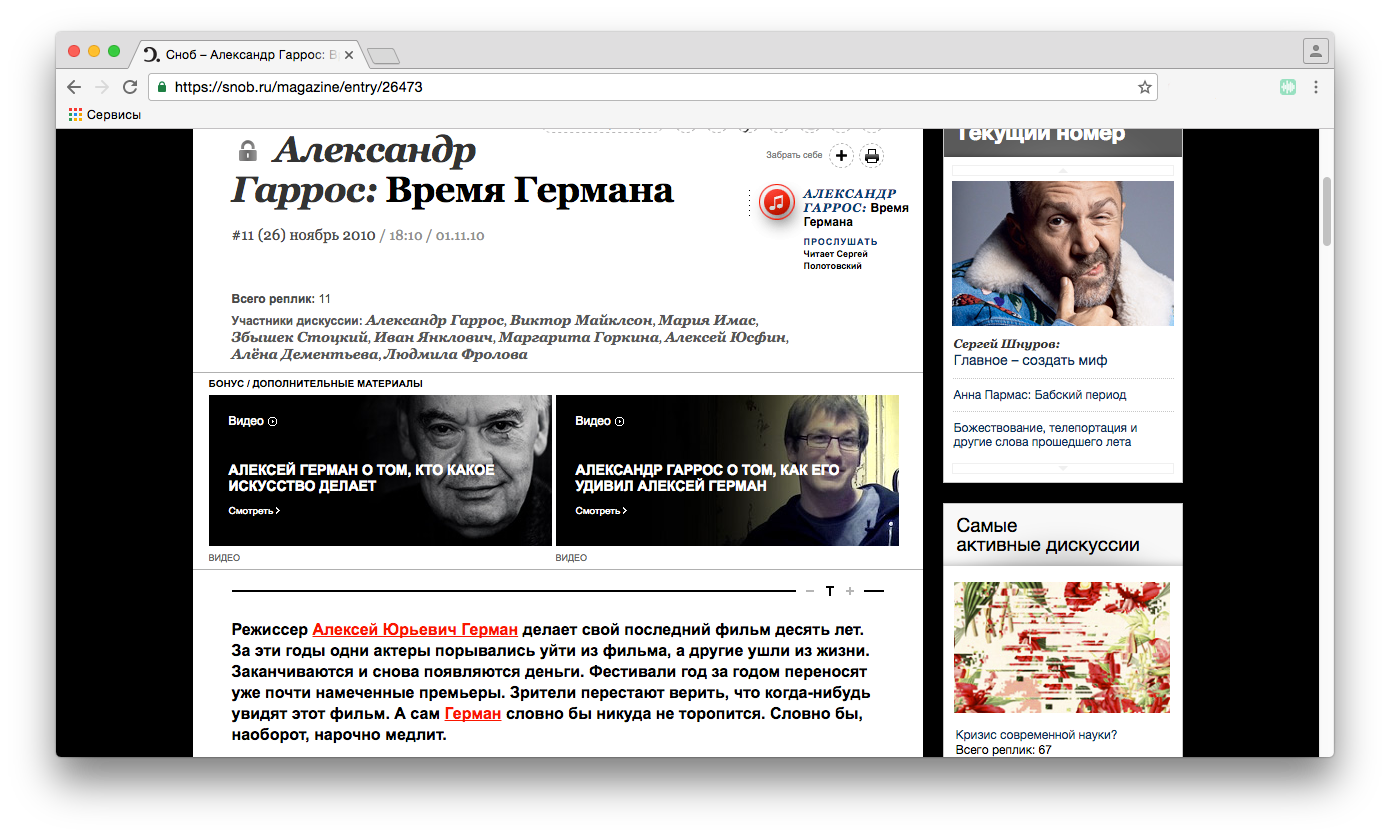
Сэкономить и прочитать собранные в книге тексты на сайте «Сноба» не получится — потребуется подписка
А с тем же Лимоновым — для вас то, что он говорит сейчас, перевешивает впечатление от его текстов?
Нет, это в разных вселенных существует. Что может случиться с его уже написанными текстами? Вообще ничего, они есть и есть. Я больше всего люблю рассказы у Лимонова. Есть книжка «Чужой в незнакомом городе», она на две трети состоит из прекрасных рассказов, великолепно сделанных. Они такими и останутся. Какое к этому имеет отношение очень пожилой человек, который иногда говорит что-то верное, а в основном всякие глупости и мерзости — ну что ж делать, ну пускай.
Возвращаясь к разговору про поколение. Я в детстве ужасно любил читать газеты, советские, любые. И мне запомнилась фраза из «Литературки» какого-то восемьдесят перестроечного года: мол, что же за застой у нас в искусстве — писатели, которым уже за тридцать, все еще считаются молодыми. Сейчас понимаешь, что нам бы эти проблемы: про ваше условное поколение и десять лет назад говорили как про молодое и подающее надежды и сейчас так говорят. Потому что следующего нет.
Это действительно так. Та же Аня Старобинец, моя жена, написала в три раза больше книжек, чем я, и ее до сих пор аттестуют как молодого писателя. Я ее утешаю и говорю, что она просто очень хорошо выглядит. Но ведь действительно — не видно никого. По крайней мере, не видно в фокусе общественно-медийного внимания. А я не очень верю, что где-то сидят непризнанные непрочитанные гении, которых просто никто не видит. Причин много, я с ходу могу придумать две. Во-первых, тот же самый интернет и соцсети, все это перенасыщенное информационное пространство, у которого цикл обновления как у вируса: он постоянно мутирует, размножается, дохнет, снова мутирует. Это, конечно, очень мощный громоотвод, люди с какими-то амбициями складывания букв туда ныряют и как-то застревают там. Вторая, и более важная, причина — бывают такие времена, когда сложно делать осмысленные законченные высказывания. По разным резонам. Бывает слишком бурное время. Бывает время как сейчас — слишком мертвое.
А почему слишком мертвое? Казалось бы, вон сколько всего: война, протесты, Донбасс, 57-я школа, в конце концов.
Не знаю, есть ощущение (не только у меня — даже у людей, которых вообще ничем не проймешь, типа Димы Быкова, у которого в башке ядерный реактор), что сейчас бессмысленно пытаться загнать это время в какую-то законченную словесную конструкцию: все, что ты ни скажешь, будет либо фальшиво, либо бесполезно. Может быть, дело в том, что нет ощущения, что эти слова могут на что-то повлиять. Кажется, что это будут напрасно сказанные слова и все твои усилия по их подбору будут тоже напрасными. Поэтому та литература, которая становится концентратором общественного внимания, — ее мало. Или она, как минимум, не про сегодня — а про вчера и позавчера, как последние романы Прилепина и Юзефовича. А чаще люди сочиняют другие истории, которые проходят ниже этого общественного радара.
Вы же, наверное, думаете об этом — каким может быть образ или кем должен быть герой, который точно бы выразил сегодняшний момент.
Если бы у меня такой образ был, то я, наверное, не удержался бы и что-нибудь написал. При этом есть одна важная вещь, как мне кажется. Она касается, прости господи, Советского Союза. Мы постоянно начинаем про него говорить, тот же Прилепин пишет про него свои бесконечные опусы, очень смешные. Само постоянство, с которым мы возвращаемся, как в заколдованной петле времени, к сборке и переразборке Советского Союза, к постоянным спорам о том, как все было и как не было, — это, мне кажется, очень важный знак времени. И то, что у нас на государственном уровне собирается некий синтез Советского Союза и Российской империи…
Синтез всего со всем. Сергий Радонежский, Сталин, Александр III, Иван Грозный, Ельцин — everything works.
Но при этом именно на советской матрице. Условно говоря, на матрице, изготовленной на рижском заводе «Радиотехника» в 82-м году; теперь на нее накручивают всякую фигню: старую и новую, капитализм, империализм, Радонежского, Владимира Красно Солнышко — все что угодно. Туда втыкается практически все, потому что советская матрица она такая — приемистая. У меня есть более-менее законченная идея книжки об этом, и я знаю еще несколько человек, которые написали или пишут такое. Наверное, это важная точка, раз мы так совпадаем.
Это история про то, как мы проваливаемся в колею, которая не нами придумана и уже давно отыграна?
Мы ее выстраиваем сами. Важный вопрос — почему и что с этим делать. У меня ответа нет, есть только какие-то соображения, но этот вот виртуальный СССР, который мы, высунув языки, вертим туда-сюда, как кубик Рубика (хотя местами это уже больше смахивает на мастурбацию), — единственное, что мне приходит в голову как точка, где сегодня явно сходятся силовые линии литературного и социопсихологического.
СССР (как, впрочем, и все остальное) сейчас оказывается скорее точкой, вокруг которой немедленно возникает ожесточенный спор, люди расходятся на противоположные стороны, и их уже невозможно примирить. В книжке есть статья про «ложную повестку» в фейсбуке, и там как раз обозначена важная особенность таких споров — здравая срединная позиция оказывается невостребованной.
Ну штука же в том, что истина обычно где-то посередине не потому, что она всегда там валяется, а по законам физики. Но срединная позиция не автоматически верная, ее каждый раз надо по-честному находить и изобретать заново. То есть эта здравая позиция — результат аналитической работы, которую ты зачем-то почему-то вдруг должен производить. Каждый день, целый день. Это же труд, причем труд неблагодарный: за него обычно не только не платят, за него еще и по башке с обеих сторон может прилететь, и хорошо, если только фигурально по башке... На самом деле для меня это, может, самое печальное в нынешнем времени: даже люди разумные, талантливые, способные к анализу предпочитают выстраивать очень простые версии реальности, не хотят предпринимать этого постоянного усилия трезвости, не тренируют предназначенный для этого мускул. Это очень много кого касается по любые стороны баррикад, вот и, на мой взгляд, того же Захара.
Есть много систем и подсистем, где можно заработать таким образом бонусы. В фейсбуке ты зарабатываешь бонусы одним способом, на государственной службе — другим, но механизм тот же самый: и там, и там ты должен уметь упрощать реальность. Это, конечно, бесконечно грустно: простая мысль, что мир устроен очень сложно, и никакую большую вещь нельзя по-настоящему описать простым способом, — ее перестают воспринимать. Сложность перестают воспринимать. У людей не умещается в голове, что противоположности могут существовать рядом, что они находятся друг с другом в каком-то сложном динамическом взаимодействии.
Ну хорошо. А в сериалы вас как занесло?
Надо начать с того, что в незапямятные времена, когда мне было лет двадцать, первое, что мы с Лешей Евдокимовым вместе написали, был сценарий, который мы писали просто в никуда. На самом деле я всегда хотел заниматься кино. Режиссера из меня, понятное дело, уже не выйдет, но хотя бы сценарист. Вообще, кино было всегда для меня интереснее, чем что бы то ни было.
При этом по вашим книжкам так ничего и не сняли.
На самом деле, все они были куплены для кино, но не экранизированы. У нас купили права на «Головоломку» (и мы написали по ней сценарий), но проект развалился. Аня Меликян в свое время купила права на «Серую слизь», мы написали сценарий, его приняли, начался кризис… Ну и так далее. Был долгий период медиа, литературы и опять медиа, когда ничего такого мы не делали. А потом снова начали. И я с Лешкой вместе, и мы с Аней вместе. По массе причин. Потому что появился рынок и индустрия (так казалось во всяком случае), медийный рынок и индустрия наоборот стали скукоживаться, и стало понятно, что если ты хочешь заниматься интересным делом и получать за это деньги, то это скорее сценарии. Сериалов стали снимать много, кино стали снимать много, а лонгриды и писать-то особо некуда... Но на данный момент мы абсолютно полочные сценаристы. Мы с Аней, например, написали двадцатисерийный сериал, такую помесь ретро-детектива и фэнтези — про Маньчжурию, 45-й год, лисы-оборотни, шпионы... Дописали уже к новому кризису 2012 года: заказчики стали уже бюджет обсчитывать, потом фигак — рубль упал, все это легло на полку — и, видимо, навсегда. Сейчас мы снова пишем что-то, что очень интересно сочинять, и, скорее всего, оно ляжет на полку. Хотя есть, конечно, амбиция написать что-то, что снимут.
По сравнению с книгами или статьями — это другая профессия?
Это другая профессия, хотя это похоже на книжки. Нарратив совершенно другой. Почему на самом деле многие писатели — плохие сценаристы? И наоборот. Потому что думать историю словами или картинками — большая разница. Мы же все из поколения, которое было настолько перепахано всеми этими видеосалонами, визуальным бумом рубежа 80-х-90-х, что мы и книжки картинками думаем.
В моей жизни, и в жизни моего друга Леши Евдокимова, и в жизни моего друга Миши Идова, был период, когда мы, учась втроем в лицее в городе Рига, целыми днями прогуливали этот лицей, просто сидели в видеосалонах не вылезая и смотрели там все (от «Ниндзя против Шаолиня» до Фрэнсиса Форда Копполы), на первых порах даже не делая между тем и другим особой разницы. Все казалось таким сногсшибательно прекрасным…
Интересно, насколько это оказался мощный пласт культуры. Боевики 80-х то переснимают, то выпускают отреставрированными в большой прокат, моднейший сериал Stranger Things весь построен на цитатах оттуда.
…И это вызывает искреннюю зависть. Если бы наша индустрия была устроена иначе, мы бы тоже могли сочинить и снять что-то подобное. Вообще, мы много могли бы сочинить и снять, если бы индустрия была иначе устроена. У нас с Аней лежит десять заявок, каждая из которых, как нам кажется, в общем, ничего.
А что с индустрией не так? На дилетантский взгляд, кажется, что с сериалами все лучше, чем где-либо. Есть ТНТ, что-то интересное на Первом снимается.
Есть Цекало и компания «Среда», есть разные люди, которые что-то делать пытаются. Проблема — как со всем остальным. Во-первых, на самом деле нет рынка. Это кажимость и видимость, что отечественное кино, отечественные сериалы существуют как бизнес по продаже историй. Когда говорят, что проклятый рынок убивает таланты, — нет. Это не наша история. У нас таланты убивает что-то другое. Когда люди не зависят от тех денег, которые они заработают в прокате, а зависят от того, насколько удачно они освоят их в процессе съемки, — это дает другой результат на выходе. И это общая социальная болезнь. Если на всех уровнях отсутствует внятность высказывания, откуда она будет в кино — и внятность, и смелость? Плюс ведь еще действительно много всего нельзя. Ладно там «мат, секс, наркотики и никотин» — но актуального, политического, болевого нельзя тоже.
Вы сталкивались с этим на уровне редактуры?
Мы с этим сталкиваемся раньше — на уровне заказа. Каких-то вещей ты просто не предлагаешь, и тебе не предлагают. Я сейчас, когда у меня есть свободное время, пишу что-то вроде киноповести. На самом деле это, по сути, сценарий, про который я понимаю, что его никто никогда не поставит. В ближайшие годы его не поставят, потом он никому будет не нужен, но мне хочется его написать.
Почему не поставят? Там Путин? Геи? Кавказцы?
Нет, там школьно-политическая история. Такой немножко поклон в сторону Житинского, Стругацких, Крапивина, — у них у всех похожие истории есть.
Вы как-то чувствуете родство с этой позднесоветской литературой?
Ну, вот с названными именами и со Стругацкими в первую очередь. Я до сих пор считаю, что это лучшее, что было в позднесоветской литературе. У меня в жизни есть важные авторы, которые меня чему-то научили. Стругацкие — в первой тройке этих авторов. По крайней мере, какая-то этика и мировосприятие у меня скорее от них, чем от кого-либо еще (не считая «Трех мушкетеров», но это совсем уже детство). Какой из меня ученик — я не знаю, правильно ли я их понял — тоже не знаю, но так вышло. Их конфликты, их вопросы до сих пор вполне актуальны. Житинского я уже не настолько сильно люблю, Крапивина упоминаю скорее по объективным соображениям — лично я его в детстве как раз и не читал, прочел что-то уже взрослым человеком. Так что мне сложно это воспринимать как самоценную литературу, но там есть опять-таки бесспорное сходство этических конструкций, тупиков и вопросов с теми же Стругацкими. И все это, повторюсь, вполне проецируется на наш сегодняшний мир — иногда куда точнее и осмысленней, чем сегодняшние «чемпионы актуальности».
На круглом столе в «Афише» десятилетней давности вы говорите, что хотели бы стать кем-то вроде Чарльза Маклина, заниматься ужением крупной рыбы и на досуге писать книги про виски.
К сожалению, виски пить врачи запретили теперь. Придется научиться разбираться в вине.
А какой следующий план?
План в целом все тот же. В идеале хочется заниматься тем, что интересно; неважно — сценарии это, книжки или длинные статьи. Хотя последние уже вряд ли, потому что правда некуда. По-английски уже поздно учиться писать. Хочется писать книжки и сочинять сценарии, получать за это вменяемые деньги и…
И удить рыбу?
Да хрен с ней, с рыбой. Просто есть я ее люблю и готовлю, говорят, неплохо. А удить жалко на самом-то деле.