«Хороший социолог знает, как разрушить любое общество за неделю»
Интервью с социологом и переводчиком Владимиром Николаевым
— Владимир Геннадьевич, недавно вы получили премию имени Бориса Грушина за перевод текстов Чарльза Кули. Не могли бы вы немного рассказать про него? Почему вы решили взяться за перевод его текстов? Как он вообще вписан в вашу читательскую биографию?
— Попытаюсь коротко систематизировать. Как автор, ученый, Кули вошел в мою читательскую биографию давно, еще в студенческие годы, разумеется. В начале 1990-х мы были увлечены всякого рода символическим интеракционизмом, и Кули, безусловно, в этом контексте фигурировал для меня как один из предтеч, не более. Но так чтобы читать его тексты всерьез... Я и не предполагал, что у него есть что-то особенное и интересное.
Но время от времени авторов, которые попадают в мой кругозор, я делаю предметом более пристального рассмотрения. С Кули это произошло не сразу. С конца 1990-х он стал чаще появляться в поле моего зрения в связи с интересом к Чикагской школе. Я вгляделся, и оказалось, что Кули чрезвычайно интересен. У меня вообще был шок, когда нашел его первую большую работу — «Теорию транспорта». Совершенно не подозревал, что он еще и экономист. Все привыкли считать, что Кули — социальный психолог, автор теории зеркального Я, а оказалось, он вовсе не с этого начинал. И дальше пошло-поехало. Постепенно сформировалось представление, что Кули надо бы посерьезнее представить на русском языке. Переведенной в 2000 году книги «Человеческая природа и социальной порядок» было явно недостаточно. Возникла идея сделать сборник. Пока подбирал, что в это сборник включить, все больше поражался, насколько Кули разнообразен. Я обнаружил, что кое-где он пишет языком, которым в социологии научились говорить только в конце XX века. Описание общества в терминах волн, широкое понятие коммуникации — тоже меня поразило, как и то открытие, что он вообще-то социолог-прагматист. В литературе, которую я достаточно хорошо знал и которая казалась мне в полной мере оригинальной, я стал все больше находить влияние Кули. В частности, в социологии Чикагской школы. Там ведь еще, в Чикагском университете, Роберт Энджелл работал, племянник Кули, много сделавший для популяризации его идей.
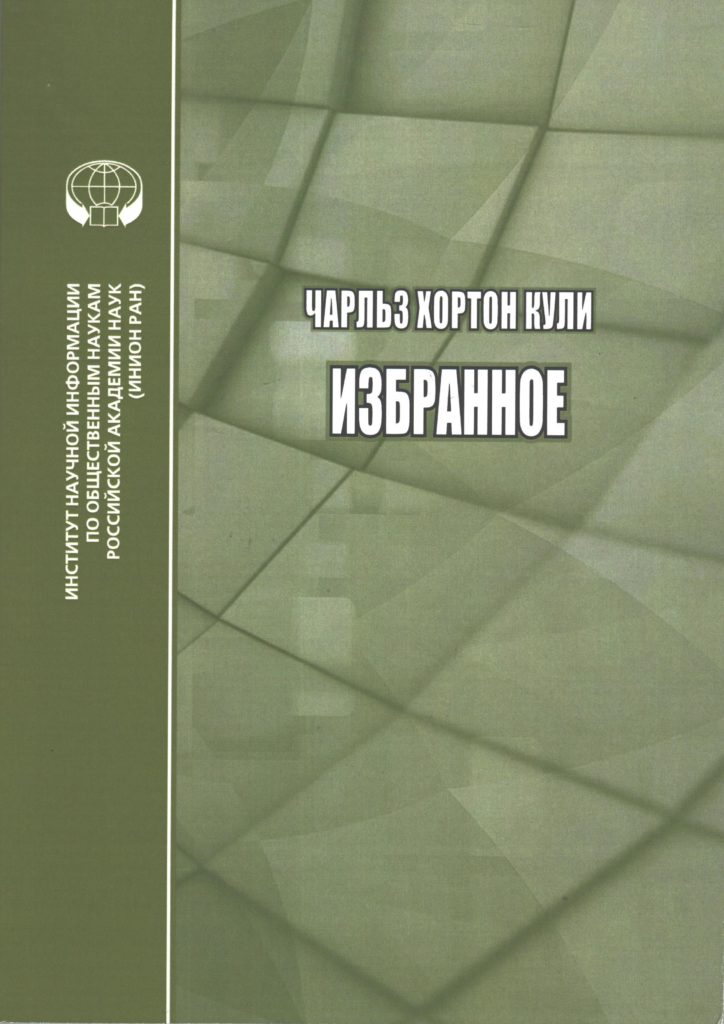
— Вы сказали, что Кули был известен в 1990-х, но при этом мало кому приходило в голову читать его тексты всерьез. Пришло ли сейчас время читать их всерьез?
— Мне кажется, их следует всегда читать всерьез. У меня вообще такая установка. Наверно, она аномальная. Да я и сам тоже аномальный, наверно, маргинальный насквозь. С моей точки зрения, классическая социологическая литература гораздо лучше той, которая производится сегодня. Я понимаю, что есть повестка, есть текущий коммуникационный контекст, и без сегодняшней литературы никуда. Но в осмыслении того, что происходит, я предпочитаю опираться на классические тексты, даже если они выглядят какой-то архаикой. Может быть, это диковато, но я не вижу смысла искать что-то лучшее. Многие более новые версии теоретизирования мне просто откровенно не нравятся.
В этом плане Кули, как и тех же, например, представителей чикагской школы, читать можно. Ясно как божий день, что такого рода исследования нельзя просто скопировать. Но они и не предполагали копирования. Они предполагали определенный способ работы с учетом того, как здесь и сейчас устроено общество. Вот этому надо учиться. Важно не то, какие свойства американского общества они ловко и умело схватили на одной отдельно взятой площадке города Чикаго, а больше то, как вообще им удалось это схватить.
— Каков тогда статус методологических работ этих авторов? И в частности, работ Кули. Можно ли взять и адаптировать их методологию к исследованию того, что окружает нас сейчас?
— Простого ответа не получится. Нужно начать с того, какое вообще место методологические вопросы занимают в прагматистской традиции. Известно, что специальные занятия методологией там не поощрялись. Предполагалось, что в отрыве от непосредственной исследовательской работы это бессмысленное занятие. Преподавание полевой работы началось только в 1950-е; тот же Эверетт Хьюз написал не больше работ методологического плана, чем Кули, разве что об интервью.
Прагматисты не фокусировались на методологии исследования как на технике, не пытаются прописать методологию больше, чем это позволяют их исходные посылки. Ее элементы в разных местах ясно проговариваются, но нигде целиком — в емком, сжатом виде. Они разбросаны по разным текстам разных авторов. Если их собрать, то в целом все становится понятно. Через того же Герберта Блумера, например, который запрещает пользоваться дефинитивными понятиями. Почему? Потому что они навязывают реальности силовые линии, разграничения, которых там нет, задают оптику, заставляющую исследователя изучать реальность в соответствии с этой оптикой. Уж не знаю, можно ли это считать методом. Больше похоже на программу построения содержательных теорий, grounded theory Ансельма Стросса и его коллег. У нас ее назвали «обоснованной», но там не об обоснованности идет речь, понятие обоснованности слишком двусмысленное. Речь идет о заземленности. То есть это содержательная теория, и она должна выстраиваться исходя из того, как устроена эмпирическая действительность. Так же и у Блумера постоянный посыл: нужно уважать природу изучаемой эмпирической реальности и исходить при построении теории и метода из этого уважения. Поэтому прагматисты прописывали только общие контуры и полагали, что понятия должны быть сенсибилизирующими (т. е. не предписывать, что исследователь должен найти в реальности, а лишь ориентировать его и наполняться содержанием по мере работы. — Прим. ред.).
Отсюда у того же Стросса первоначальная гипертрофированная позиция: исследование необходимо начинать с чистого листа, tabula rasa; когда исследователь входит в поле, он должен вообще все выбросить из головы. Это, конечно, тоже заблуждение, и потом его несколько сгладили, в том духе, что слишком буквально это понимать не надо, но исходная посылка-то была такая: нельзя с заранее расписанными предпосылками, с жестким понятийным аппаратом идти в эмпирическую реальность. Мы будем просто находить там то, что сами придумали в кабинете. Нет большой мудрости в том, чтобы набрать факты, которые бы наполнили наши заранее заготовленные таблички. Наберем. Это дело техники, дело усилия.
Аналогично и у Кули: у него только контурные линии. В то время начались локальные исследования, стали практиковать case studies. И конечно, Кули пытался систематизировать, собрать воедино общие принципы, которых нужно придерживаться. Но не более того. Вряд ли Кули мог стать автором учебника по социологической методологии. Ему бы просто в голову не пришло доводить все до жестких методологических канонов. По крайней мере, мне так кажется, я эту традицию понимаю так.
У кого-то из коллег, конечно, сказанное может вызвать оторопь: как можно всерьез отстаивать такие мягкие, слабо прописанные, не до конца кодифицированные подходы? Понятно, что сегодня живем мы в реальности, которая нас заставляет все кодифицировать, защищаться, прикрываться. Нам нужны обоснования. Мы должны создавать флер, что у нас объективная наука, что у нас все по точным методам. Да, по точным методам. Но вопрос: мы реальность познаем или что-то другое, артефакты, которые мы сами в кабинете придумали?
В прагматизме однозначный ответ: нужно изучать эмпирическую реальность как она есть. На этом все построено. У прагматистов, конечно, есть свой скос. Они в качестве реальности берут только ту реальность, которая присутствует в непосредственном человеческом опыте. То есть она осязаема, тактильна, всегда локальна, всегда вокруг здесь и сейчас. Поэтому из всего этого получились преимущественно case studies, ограниченные качественные исследования, локальные этнографии. Но фокус-то был такой, что можно изучать действительность в такой ее предельности — через призму действительного опыта. Не придуманного, не абстрактного, как в новоевропейской философии, а телесного, полноценного во всех модусах одновременно, целостного, тотального, всеобъемлющего. Все через это прокачивается, в том числе философские темы; и на уровне исследования социальных миров это так реализуется.
— Вы сказали, что язык Чарльза Кули удивительным образом похож на язык социологии конца XX века. С другой стороны, вы сказали, что современные социологические исследования вам интересны меньше, чем исследования классические. Почему так, в чем между ними разница?
— Наверное, я больше буду говорить о теории, не о самих исследованиях. Я больше имею дело с теоретической литературой. Мне в принципе не нравится то, что делалось в области социологической теории после майской революции 1968 года. Не то чтобы совсем не нравится. Это интересно, это задало тон. Но не нравится общий поворот, который тогда в теории произошел.

Собственно, все лучшее и классическое в значительной мере было создано до этого, и мы это прекрасно понимаем. Те, кто писал позже, классики, которые пожили подольше, типа того же Бурдье, например, или Гоффмана, или даже Лумана, — ведь это люди, сформировавшиеся не в атмосфере 1960-х. Атмосфера 1960-х — это уже дальше, что-то типа Гидденса и т. д. С этого времени произошел определенный левый скос. Я бы природу этого скоса определил так, что реальность, в общем, стала видеться слишком легкой и слишком модифицируемой вручную прямыми усилиями.
С моей точки зрения, очень важная сторона этой реальности потерялась — тяжеловесность, связанная прежде всего с дюркгеймовским социологизмом. Реальность тяжела. Между прочим, даже если взять Бергера и Лукмана с их классической версией социального конструкционизма, то, в отличие от поздних его версий, она вполне традиционна. Они понимали тяжесть, говорили, что реальность упряма. Как и Шюц до них. Даже в феноменологической традиции все говорят о сопротивлении этой реальности. Она не строится по собственному желанию, не является продолжением собственного желания.
Быть может, в каких-то отношениях адекватные перемены познавательных траекторий в сторону культуры и языка перечерчивают, переописывают реальность в ином ключе: это более легкая реальность. А в логическом пределе мы видим следующее: реальностью будет то, что мы захотим сделать реальностью.
Этот перебор следует из представления, что социальная реальность так или иначе вырастает из деятельности людей, через деятельность людей. Понятно, люди активны. Понятно, они целеполагают. Они могут вмешиваться. Этого никто не отрицает. Но традиционно социология акцентировала внимание на том, что люди всегда ведут себя разумно, каждый отдельный человек может быть сколько угодно непредсказуем, но то, что у них коллективно получается в итоге, не является продолжением их целенаправленных усилий. Всегда возникает нечто другое, с эмерджентными свойствами, непредвиденными последствиями. Образцовый пример — «Протестантская этика» Вебера. Хотели нравственно улучшить мир, а в итоге получили современный капитализм. Очень здорово вышло.
Вот этого — мы хотим что-то совершить, а получается нечто другое, причем не имеющее отношения к тому, что планировалось, — я по большей части не вижу в современной социологии. Если взять то, с чем я напрямую работал, то вот, например, Эш Амин и Найджел Трифт, современные теоретики города. Их книга «Города: переосмысляя городское» — прекрасная работа. По-разному можно ее истолковать: как постмодернизм, как новый урбанизм, кто-то может увидеть своеобразную версию акторно-сетевой теории. Там берется динамический взгляд, город переописывается через мобильности, потоки, обороты. И вроде все адекватно. Но когда оптика оказывается избыточно сосредоточена на мобильности, текучести, флюидности, изменчивости, у нас возникает впечатление, что у этого вообще нет никаких каркасов.
А каркасы есть. Люди даже в динамичном современном обществе — очень рутинные существа во многих отношениях. Это вообще равнозначные вещи: общество существует — люди ведут себя рутинно и предсказуемо. Общество исчезнет — исчезнет предсказуемость, рутинность: что ни мгновение, то сюрприз. Все неожиданно, все внезапно, в каждый миг может произойти что угодно, строить ничего нельзя. Как бы кончина общества.
Не так давно некоторые с флагами бегали: «конец социальности», «общество умерло», «общества больше нет» — как исторический продукт, в XIX веке родилось, в XXI благополучно почило! Куда исчезло? Рутины остались. Рутины — это институты. Общество имеет институциональную структуру. Она очень тяжелая. Люди во многом неподвижны, пока есть общество, пока есть упорядоченная совместная жизнь. Соответственно, нужно возвращать язык для описания упорядоченных структур. Но где его брать? Потом, нужно ведь брать не только микроуровень, где могут указать, например, на Гоффмана, исследования повседневности. Этого недостаточно. Есть не только локальная повседневность, но и большая жизнь вокруг этой повседневности, жизнь крупных сетей, институтов, институтов глобального общества — такая же реальная, как и реальность осязаемых вещей, через свою работу, через свои последствия. Ее нельзя полностью растворить в движении.
В этом плане, например, когда Кули говорит, что общество приобретает характер волн, это звучит свежо и хорошо. Но это хорошо звучит, потому что у него есть базовое понятие институтов. То есть у Кули есть нормальная, вполне кондовая социология, с вполне кондовыми понятиями, которые не будут меняться каждую неделю, потому что новинки нужны в свежих peer-reviewed журналах первого квартиля. А Кули не нужно было новинок, ему нужно было просто социологию создать. При этом он не терял видения того, что мир ускоряется, становится очень подвижным, имеет волновой характер. А когда остаются только волны, хочется вернуться к классической социологии. Хочется, в конце концов, нормального полноценного позитивизма. А то получается, что там, где мы теорией занимается, у нас новомодные веяния, причем, как правило, на 100% антипозитивистские, потому что позитивизмом сегодня никого не впечатлишь, а в исследованиях, которые куда-то инкорпорированы и как-то финансируются, — там позитивизм.
Меня впечатляет этот разрыв. Мы преподаем, в общем, позитивистскую социологию. Делаем упор на количественные исследования. Преподаются, конечно, и качественные, но качественными исследованиями не заработаешь на жизнь. Плюс появляются новомодные вещи типа big data. Этим можно заработать, а там кондовый-прекондовый позитивизм впечатан в сами техники. Но, когда речь заходит о теории, когда надо подобрать «ресурсы», начинаются всякие упражнения. Получается несуразность: одно с другим логически не соединяется, не вяжется. На уровне техники социология оперирует позитивистскими штампами, порой намертво зафиксированными. К качественным исследованиям, особенно в их российском варианте, требования предъявляют почти такие же жесткие, как к количественным. А в осмыслении, в «теоретических рамках» начинается поиск «свежих» теорий, идей. Я о бессмысленной продукции вообще не говорю — только о том, где есть какая-то осмысленность. Там не ищут позитивистских теоретических ресурсов. У нас позитивистской теории нормальной нет. А этого позитивизма хочется, потому что ну сколько можно с позитивизмом бороться?
Социология выросла на позитивизме и авторитет свой завоевала на позитивизме. И до сих пор ездит там, где речь идет о нужности социологии хотя бы кому-то для чего-то, на позитивистском компоненте. Его нельзя вычеркнуть, не угробив саму социологию.
— Есть ли какой-то текст, который олицетворяет для вас этот переломный момент в конце 1960-х? Текст, который наиболее четко дает понять: все изменилось, теперь социология другая.
— Быть может, такой текст и можно найти, но я таких не знаю... Если обращаешься к классической традиции, то там все-таки ответственные были люди. Кого ни возьми из классиков конца XIX — начала XX веков, каждый — человек-кремень. Почти у всех судьбы очень нелегкие. Это люди, которые реально вкладывали всю свою жизнь в это начинание — социологию. Их ответственность перед дисциплиной была очень велика, они ее очень хорошо чувствовали. Более того, эта ответственность была институционализирована. Она была впечатана в то, что они делали.
А атмосфера после 1960-х, она более детская, что ли. Человек приходит играть в социологическую песочницу. Это игра, ответственности нет. Возникла тяга к социальному экспериментированию: «а мы хотим по-другому», «все может быть иначе» и так далее. Этот порыв имел, конечно, прежде всего политическое содержание — борьба за свободу, за права, за разные социальные перемены, но всерьез затронул и социологию, отодвинув на периферию социологического теоретизирования «тяжелые» стороны реальности. В духе этой переломной эпохи они воспринимались как репрессивные и стесняющие тягу человека к свободе. Это то, что в социологии схватывалось в таких понятиях, как «социальный порядок», «институты», «нормы», «системы» и т. д. Новая социология жаждала вырваться из цепких когтей социологизма с его идеей принудительности. В конце концов ей это во многом удалось. Она освободилась и от других тяготивших новое поколение «гирь», не только тех, что перечислены. Даже слова, которыми социология как наука неизбежно оперирует, избавились от лишней тяжести; теперь их стало значительно легче произносить, соединять, комбинировать, перекомбинировать и т. д.
Я, может быть, несколько гипертрофирую, но я именно так вижу движение в области теоретической социологии. Рубеж — это эпоха конца 1960-х годов. После него постепенно начинается нечто совершенно другое.
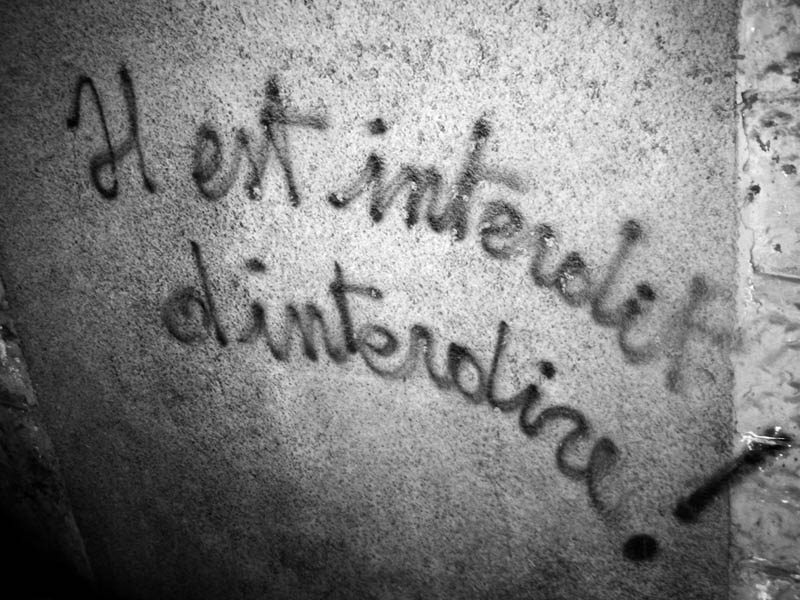 — Когда мы говорили с вами про тяжесть мира, про то, что реальность слабо поддается манипуляциям, мы вышли на тему рутин. В этом смысле — как вы относитесь к современным этнометодологам и их текстам?
— Когда мы говорили с вами про тяжесть мира, про то, что реальность слабо поддается манипуляциям, мы вышли на тему рутин. В этом смысле — как вы относитесь к современным этнометодологам и их текстам?
— Я очень уважительно отношусь к этнометодологии как течению. Оно очень интересное во многих аспектах: исследования прекрасные, просто потрясающие, удивительные. Не могу сказать, что я тщательно слежу за этнометодологической литературой — мне это просто не нужно. Но, насколько я понимаю, если бы там были какие-то серьезные объяснения порядков, выходящих за рамки локальных пространственных и темпоральных упорядочений, то мы бы, наверное, об этом услышали. Но в ограниченных во времени и пространстве закутках мира, с которыми работают этнометодологи, не заключен весь порядок. Этот ограниченный порядок соотносится с более крупными порядками.
Если локальная рутина где-то разрушается, то мы, конечно, в более крупных и абстрактных порядках услышим отзвуки. Разумеется, в них происходят какие-то сдвиги. Но если нас интересуют порядки более крупного масштаба, чем в зонах непосредственного практического действия, то возможности этнометодологии здесь очень скромные. Мы вряд ли получим ответ на вопрос, как работает или разрушается крупная фирма, если начнем описывать, как слесарь приходит на свое рабочее место изо дня в день, как он изо дня в день работает на станке и так далее. Крупные порядки не схватываются в этнометодологии. Этнометодология здесь ничего не может дать. Она может дать только то, ради чего собственно она создавалась, — объяснение упорядоченностей в мире повседневной жизни. Ее диапазон возможностей узок в силу ограниченного определения реальности, привязанного к практическому действию здесь и сейчас, к жизненному миру в его ближайших окрестностях.
— Я хочу перескочить на другую тему и поговорить о работе переводчика. Есть переводчики, которые участвуют в создании текста почти наравне с автором. Есть и другие — те, кто старается быть в тексте максимально незаметным. Какой подход ближе в этом смысле для вас и почему?
— Мне редко в глаза говорили, что думают о моих переводах. Но иногда говорили. В общем, хорошие вещи. Плохих не говорили. Но, быть может, кому-то они совсем не нравятся.
В переводах я близок к буквалистам, хотя люди нередко превратно понимают, что я имею в виду. Я всегда иду от текста. С моей точки зрения, предельно хороший перевод — это перевод, абсолютно тождественный по смыслу оригиналу. Это перевод, которым можно полностью обойтись, не обращаясь к оригиналу для уточнения смысла.
Поэтому для меня самый большой грех, который переводчик может совершить, — это грех отсебятины. Там ничего от себя не должно быть. Есть автор, его текст. И есть ты, исполнитель. Ты несешь ответственность за автора. Ты не должен человека оболгать. Не должен его текст испортить. Должен быть защитником текста и автора. Когда перевод сделан — переводчик исчезает. Нет никакого меня. Есть автор, написавший эту книгу, и есть временная копия этого автора в голове переводчика, созданная, чтобы написать книгу или статью по-русски.
К сожалению, огромное множество переводов, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно не отвечают этим требованиям. Иногда мы вынуждены использовать безумные переводы в университете, потому что не можем каждую вещь заново переводить для учебных целей. Неудобно перед студентами. Очень много вранья, причем неожиданно в переводах, которые слывут хорошими. Возможно, сказывается плохое знание переводчиками языка. Может, неудача какая-то. Иногда редакторы портят, между прочим. У нас почти нет хороших редакторов для того рода литературы, с которым я работаю. Меньше, чем пальцев на одной руке, мне кажется.
Когда читаю не вполне качественные переводы, сразу замечаю ошибки, даже без обращения к оригиналам. Благодаря тому опыту переводчика, который у меня есть. Эти ошибки каждый может совершить и иногда совершает, и с увеличением опыта знание о возможных ошибках постоянно обогащается. Опытный переводчик становится в каком-то смысле кладезем всевозможных ошибок. Хьюз говорил, что хороший священник должен быть специалистом по злу. Иначе он не сможет помочь прихожанам, людям, которые к нему приходят. Так и здесь. Я — вместилище ошибок. Это помогает понимать даже плохие переводы. Но настроение при чтении подобных текстов бывает матерное.
— Есть ли такие авторы, чьи тексты представляют собой экстремально сложный материал для перевода? Непереводимые авторы?
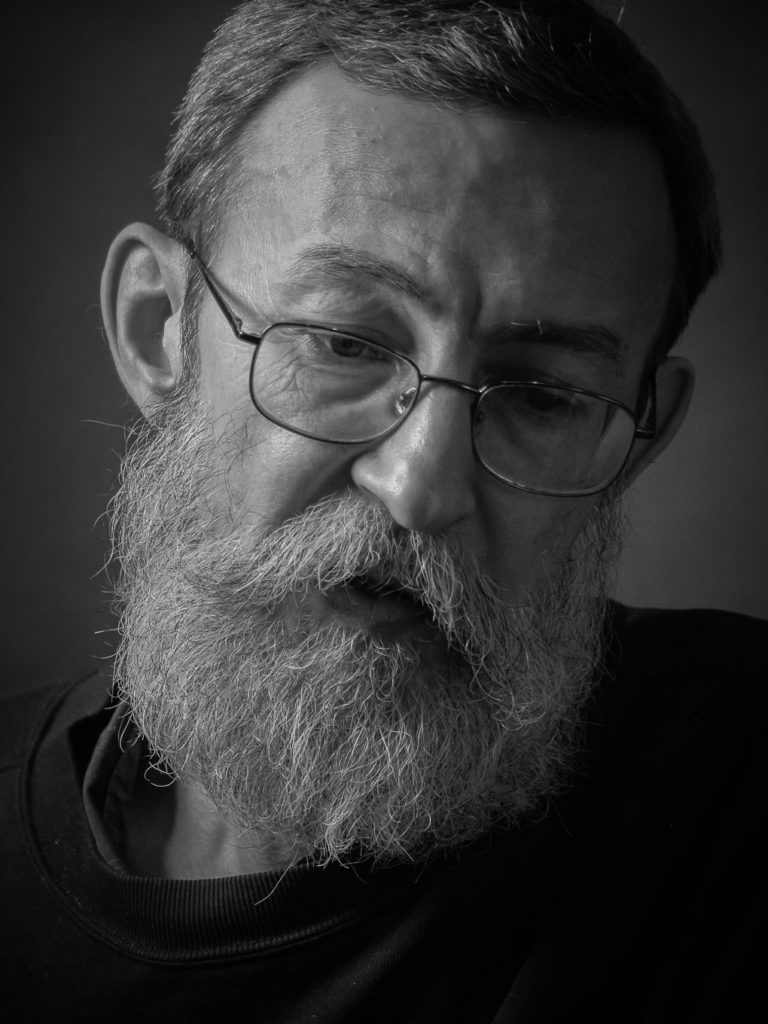 Фото: Феликс Геллер
Фото: Феликс Геллер
— Ну, совсем непереводимых в научной литературе, наверное, быть не может. Это все-таки рационально устроенный текст. Рациональное содержание можно передать. Для большинства смысловых элементов текста и их связей есть готовые решения. Это не язык майя, тут не нужно гадать. Все словари, справочники даже для самых сложных текстов сейчас доступны.
Бывает, аналогов для иностранных терминов в родном языке еще не выработалось. Иногда приходится иметь дело с калькированием, но это вопрос целесообразности и привычки. В старых дореволюционных переводах часто встречается выражение «общественные отправления». Сегодня это диковато читается, но тогда, видимо, считалось, что по-русски правильно так. Потом на место «отправлений» пришла «социальная функция». Поначалу было, наверное, непривычно. Потом привыкли, и русскому языку ничего от этого не сделалось. Если термины нужны, если они используются, если они свое место занимают, если они несут в себе устойчивый смысл, их нужно втаскивать. И втаскивать не в каких-то вычурных искусственных формах, а в самых простых, удобных и максимально приближенных к оригинальным. Иначе мы вечно будем находиться в зазоре между нашей и мировой социологией.
— А как вы относитесь к обратной позиции и попыткам актуализировать домодерновый язык, якобы единственно пригодный для описания социальной действительности в России? Согласно такому подходу, следует говорить о сословиях вместо классов, вместо работы — о промысле, вместо рынка — о распределении и так далее.
— Ну да, с этим тезисом выступает, например, Симон Гдальевич Кордонский. И у него он обладает высокой степенью двусмысленности. Так просто сказать «да» или «нет», «я согласен» или «не согласен», не получится. Меня этот тезис нисколько не угнетает, потому что речь в нем идет, как правило, о мифологеме. Социологи, которые вот так буквально ориентируются на западное и все западное к родным реалиям прикладывают, — персонажи вымышленные. Таких очень мало, по моим наблюдениям. Бóльшая часть социологических исследований обходится без западного понятийного аппарата. Западная наука никаким образом в них не задействована, разве что в качестве свадебного генерала в так называемом литературном обзоре в статье, курсовой работе, диссертации. Но исследование, если оно есть, если оно нормальное, правильное, настоящее, как правило, очень редко, почти никогда не связано с тем, что в литературном обзоре говорится.
А что касается того, можно ли перенести на нашу действительность западные модели, западную теорию или нет, то нужно понимать, что в социологической теории очень много разных построений, имеющих разный характер. Какие-то из них непереносимы, разумеется. Какие-то переносимы. Но вопрос скорее в том, для чего они переносятся, как они переносятся, в каких контекстах они переносятся, к чему они относятся, как прикладываются, с чем соединяются.
Взять, например, «сословие» и «класс». Это же не общесоциологические понятия, а исторические. И я не уверен, что сторонники той позиции, которая подразумевает необходимость выработки особого языка социологии для описания российской действительности, всегда верно понимают, о чем они говорят. И когда говорят, социологи, дескать, ерундой занимаются, вместо того чтобы исследовать настоящее общество, это, как сегодня говорят, троллинг, или подтрунивание. Я не думаю, что это всерьез, и не отношусь к этому всерьез.
— Вы сказали, что священник — это специалист по злу. Переводчик — это специалист по ошибкам. А кто такой социолог?
— Вообще говоря, социолог тоже должен быть специалистом по разного рода злу. Это должен быть дьявол во плоти, воплощенный злодей... Всё, нашел метафору. Хороший социолог, качественный, сильный, — это человек, который знает, как полностью разрушить любое общество за одну неделю. Но никому об этом не скажет.