Жаркие, шумные, пестрые, сырые
Из книги «Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и город XXI века»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Том Дайкхофф. Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и город XXI века. Москва: Ад Маргинем, 2023. Перевод с английского Антона Вознесенского. Содержание
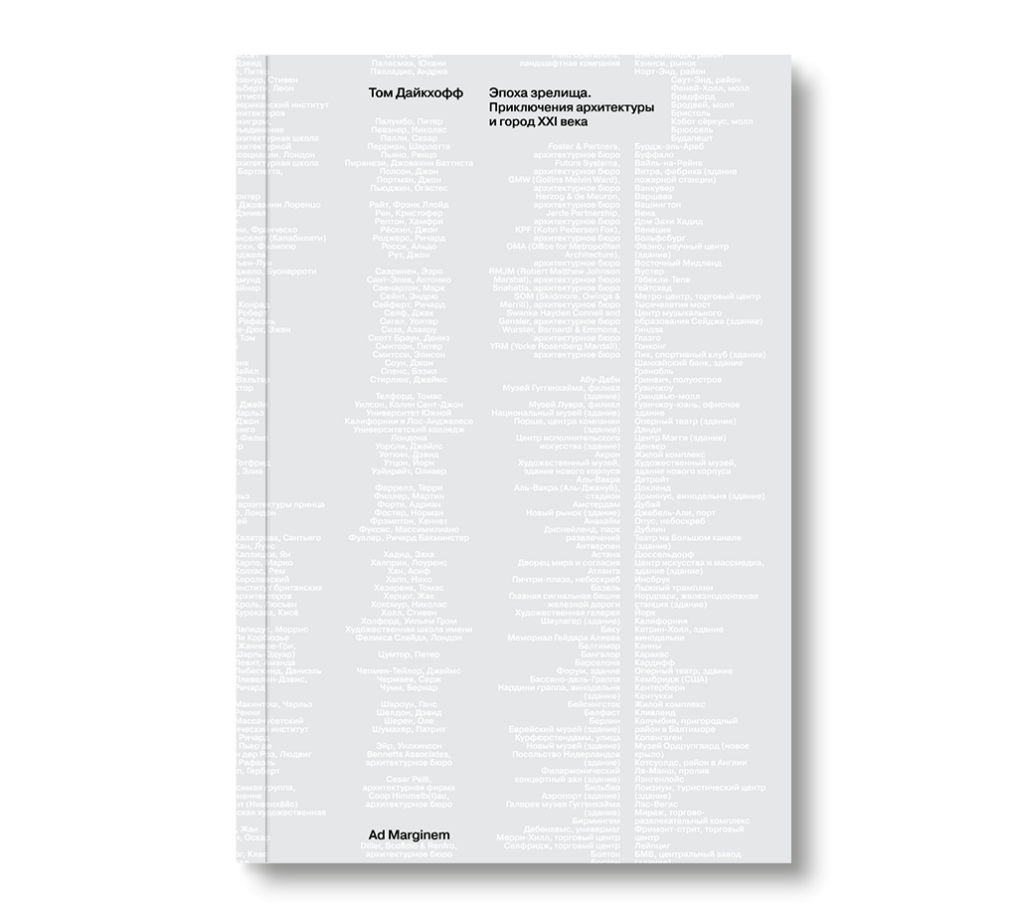 Декабрьским вечером 1960 года архитектор и художник Констант Нивенхёйс представлял перед собравшейся в Городском музее Амстердама аудиторией произведение своей жизни — «Новый Вавилон». Он включил проектор слайдов и начал презентацию. Современные архитекторы, вещал он завороженной публике, игнорировали существенные сдвиги в современной жизни, поворачивались спиной к поколению тех, кто родился после войны. Во всем мире города росли за счет все новых и новых пригородов, так что скоро мир должен был сделаться одной гигантской городской агломерацией. Однако жизнь в этих городах оказалась задавлена утилитарной застройкой, высокоэффективным процессом извлечения труда и денег из населяющих их жителей. Архитектура, пояснял Констант, оказывает влияние на психологию, эмоции и настроение всех нас, ее населяющих. Так отчего бы ей не поддерживать нас вместо того, чтобы ломать? Что, если мы обретем силу создавать здания такого рода, чтобы они отвечали сокровеннейшим нашим мечтам, освобождали нас?
Декабрьским вечером 1960 года архитектор и художник Констант Нивенхёйс представлял перед собравшейся в Городском музее Амстердама аудиторией произведение своей жизни — «Новый Вавилон». Он включил проектор слайдов и начал презентацию. Современные архитекторы, вещал он завороженной публике, игнорировали существенные сдвиги в современной жизни, поворачивались спиной к поколению тех, кто родился после войны. Во всем мире города росли за счет все новых и новых пригородов, так что скоро мир должен был сделаться одной гигантской городской агломерацией. Однако жизнь в этих городах оказалась задавлена утилитарной застройкой, высокоэффективным процессом извлечения труда и денег из населяющих их жителей. Архитектура, пояснял Констант, оказывает влияние на психологию, эмоции и настроение всех нас, ее населяющих. Так отчего бы ей не поддерживать нас вместо того, чтобы ломать? Что, если мы обретем силу создавать здания такого рода, чтобы они отвечали сокровеннейшим нашим мечтам, освобождали нас?
Ключом к счастью, полагал он, могла стать технология. Лишь она способна вооружить горожан свободой придавать форму местам, в которых они проживают, своим собственным жизням. После того как автоматизация отменила труд, его заменила жизнь, полная удовольствий и досуга. Архитекторы, градостроители и политики также должны остаться в прошлом. Мы все станем архитекторами своих жизней в Le grand jeu à venir.
Проектор Константа все стрекотал, представляя зрителям архитектурный макет доселе невиданного городского пейзажа: бесконечная череда длинных, приплюснутых прямоугольных зданий на пилонах, мечущихся зигзагом посреди рыжего грунта с подвешенными в вышине красными и зелеными пятнами, и под ними — паутина линий, протянутых туда и сюда, и, словно намек на какой-то ждущий нас в будущем апокалипсис— брошенные внизу, на рябом лунном ландшафте, машины. Это был новый город Константа — Новый Вавилон. В его пределах исполинские многоуровневые здания вытягивались цепью, безграничными просторами кондиционируемого пространства. На следующем слайде была снятая якобы с высоты птичьего полета фотография макета, изготовленного из прозрачного плексигласа с плотными, перекрывающими одна другую поверхностями. Слайды в проекторе вели аудиторию все глубже внутрь гигантского бесконечного здания, через его интерьер, один уровень за другим; Констант озвучивал презентацию при помощи магнитофона: шум аэропланов, садящихся на крышу Нового Вавилона, бессвязные городские шумы — оживленное движение, животные, люди, музыка.
— Новые вавилоняне, — вещал Констант, — в качестве развлечения проектируют сами себя в окружении той среды, что они же и спроектировали.
Это город, состоящий из зданий, которые люди создали сами, манипулируя легковесными конструктивами вроде тех, что предложил знаменитый инженер Бакминстер Фуллер, или «пространственных конструкций» Конрада Ваксмана, что можно формировать и трансформировать самому: раздвижных полов, пандусов, стен, ферм, лестниц. Город должен был стать постоянно меняющимся организмом, полным интенсивного опыта, гигантской игровой площадкой, «атмосферным музыкальным автоматом», которым, пояснял Констант, сможет пользоваться лишь вполне революционизированное общество.
В этом обществе, свободном от принуждения к собственности, кочевой образ жизни станет нормой. В огромной, закрученной вихрем инфраструктуре, открытом причудливом переплетении мобильных перегородок и глубоких, кажущихся безграничными возможностей, заключаются «шансы» людей сделать свою собственную архитектуру (архитекторы, мечтал Констант, «исчезнут»), архитектуру, в меньшей степени зависящую от стиля, чем от окружения. Все будет под контролем кибернетики, электроники, компьютеров. Город будет непосредственно подключен к желаниям горожан. Если в современном городе характер, атмосфера, страсть отсутствуют, то его заместитель, Новый Вавилон, соткан из них в полной мере. «Прохладные и темные пространства, — писал впоследствии Констант, — жаркие, шумные, пестрые, сырые» должны быть подняты на тонких колоннах на высоту шестнадцать метров над уровнем земли, освобожденной для развлечений. Гроты, руины старого города и пейзажи — все можно было бы рассматривать сверху, с высоты променадов. «Все — открытие, — продолжал он, — все меняется». Таковы были бы очертания мира после того, как он разделался бы с капитализмом.
Констант скончался в 2005 году в возрасте восьмидесяти пяти лет. Некрологов за пределами его родины, Нидерландов, было немного. Да, человек этот не был героем первой полосы уже целое десятилетие, если не все три. Но зато он был интеллектуальным вождем «прово» — тех курильщиков травки, анархистов, вычурные выходки которых в шестидесятых положили начало современным стереотипам о свободных, либеральных Нидерландах. Констант (который вскоре отказался от своей неудобопроизносимой фамилии) выступал одним из вдохновителей Ситуационистского интернационала, инспиратором демонстрантов, прозванных Жан-Люком Годаром «детьми Маркса и кока-колы», пыхтящим «Голуазом» ересиархом всех мрачных контркультурных движений, начиная с битников и новых левых мая 1968 года до панков и энтузиастов Occupy Wall Street. Этот человек — коллекционировал ли он послевоенные, левацкие арт-группы? — был также светом в окне для представителей движения «КоБрА», произведения которых — огромные, будто нарисованные ребенком, каракули, созданные с расчетом позлить буржуазное общество, — сегодня служат скорее объектом почитания среди искусствоведов, чем пользуются настоящим признанием. Ему же случилось стать самым влиятельным архитектором в послевоенное время.
Среди вас немногие слышали о нем. За всю свою жизнь человек этот не уложил и одного кирпича. И все же «Новый Вавилон», его единственное масштабное концептуальное произведение, представляло собой столь мощный прорыв в представлении будущего, так убедительно продолжало традиции великих архитектурных фантазий — от Пиранези до Сант-Элиа, что среди архитекторов свободными от его интеллектуального влияния остаются лишь немногие. «Новый Вавилон» породил скрученные формы Фрэнка Гери и Захи Хадид, прагматичный хай-тек Ричарда Роджерса и Нормана Фостера и, конечно, провокации Рема Колхаса. Назови их — они напомнят о нем.
В 1956 году Констант познакомился с Ги Дебором, которому вскоре предстояло сделаться лидером ситуационистов. Дебор был хитрым прожженным типом — пьяницей, который то и дело отлучал от общения приятелей; однако с Константом они поладили. Созвучные их идеи указывали направление Константу, который дрейфовал с тех пор, как в 1951 году распалась «КоБрА». Констант и Дебор были далеко не единственными, кому не нравились города, построенные после Второй мировой войны. Им были хорошо известны работы «Независимой группы», «Команды-10» и Смитсонов, однако сами они предлагали нечто еще более радикальное — революцию. То была эпоха Кастро и Маккарти. Настоящие коммунистические революции подспудно бродили во многих городах мира, и Париж, испытавший потрясение после Алжирской войны, наводненный группировками, отколовшимися от левого крыла, был, по их мнению, ничуть не хуже любого другого места, чтобы начать.
У каждого из них было свое представление о том, какими должны быть урбанизм и общество. Но прежде того каждый из них имел представление и о том, какими урбанизм и общество не должны быть: их не устраивал ни буржуазный, разделенный классовыми перегородками город прошлого, ни коррумпированные модернистские утопии, происходящие из французских банльё, ни новые американские города общества потребления, которым предстояло господствовать на Западе в рамках того, что Дебор позже назвал «обществом спектакля» (или зрелища), «городом вещей», жители которого, подсевшие на торговые центры, сделались «призраками», тенями прежних самих себя. В мире господствовала «культура отчуждения», отчуждения одной особи от другой и от нас самих. В природе капиталистического общества было рационализировать вещи, разбирать, разделять их на части. Творчество перестало наполнять работу и стало еще одним товаром, одним из множества обетованных способов удовлетворения отчужденных масс: спектаклем. Общество спектакля развивает у его членов аддиктивное и зависимое поведение. Мы находимся в постоянной погоне за следующим хитом, чтобы снова и снова восстанавливать цельность.
Подрывая общество партизанскими действиями, в одно и то же время жестокими (как «бунт») и безобидными, как «дрейф» (незапланированное — «куда глаза глядят» — перемещение сквозь современный город, вызов чрезмерно упорядоченному, избыточно распланированному ландшафту, осужденному и Джейн Джекобс — правда, с менее революционных позиций), Констант и Дебор полагали, что более аутентичный, живой город, давно погребенный капитализмом, в состоянии восстать из пепла, что раскрепостило бы каждую отдельную личность и все общество в целом. Фраза «Под мостовой — пляж» стала лозунгом протестного движения. «Единственная цель архитектуры, — писал Дебор, — служить страстям людей».
Если Дебор дал ситуационизму язык, то Констант, художник и архитектор в его рядах, дал ему форму. «Новый Вавилон», многозначительное название выбрал Дебор, был городом не греха, а удовольствия. Для Константа он сделался увлечением почти на два десятилетия и был представлен в картинах, гравюрах, макетах, текстах, коллажах и эскизах. Констант воображал себе будущее, в котором люди, благодаря технике освобожденные для вечного досуга, дрейфовали бы в бесконечных удовольствиях. В отличие от безысходных фантазий футуристов, воплощенных в кинокартинах «Метрополис» или «Облик грядущего», здесь свобода и досуг были коммунистическими: эти надежды разделяли все, а не только представители элит. Констант воплотил их в безудержных вихрях-лабиринтах, спиралях, напоминающих те, что некогда изобразил на холсте для движения «КоБрА» в качестве кукиша в ответ на модульные сетки модернистов. Ситуационистам были по душе биоморфные горбы Фрэнка Ллойда Райта, завораживающие завитки барокко.
 Констант Нивенхёйс. 1966. Фото: Fotopersbureau De Boer / Noord-Hollands Archief
Констант Нивенхёйс. 1966. Фото: Fotopersbureau De Boer / Noord-Hollands Archief
Дебору прежде всего нравилось то, что получалось; в Константе он видел то, что часто восхищает людей в архитекторах: умение реализовывать их мысли в трех измерениях. Вскоре после того, однако, в обычном для него припадке злобы, он отлучил Константа от ситуационистов — отчасти именно из-за попыток созидания конкретных, хотя бы и отдающих дань традициям импрессионизма вихрей, форм постреволюционного мира, которые, как полагал Дебор, должны оставаться за пределами обсуждения до тех пор, пока не произойдет сама революция. Констант, однако, никогда не допускал и в мыслях, чтобы «Новый Вавилон» мог быть чем-либо иным, как его личной интерпретацией, «ощущением» утопии. Вместе с тем он полагал, что архитекторы и художники вправе создавать материальные манифестации этой утопии и что это может ускорить ее наступление. Архитектура могла быть одной из ситуационистских «ситуаций», «творческой игрой с воображаемой средой», тем стартовым выстрелом, что спровоцировал бы перемены, изменил бы общество, вывел бы людей из оцепенения. Констант отвергал слово «утопия». Однако он также отказывался оставить надежду на то, что ее воплощение возможно здесь и сейчас, что она будет разрастаться, подобно опухоли, из старого города, напитанная творческой энергией его богемных жителей.
Десять лет спустя подобные надежды казались устаревшими, как рок-н-ролл. Провал парижских беспорядков в мае 1968 года, спровоцированных непосредственно движением ситуационизма, разрядил совсем иной стартовый пистолет. То была не революционная ситуация Дебора и Константа. Вместо того на свет появился город-предприниматель, истинный город зрелища. Капиталистическое общество сделало то же, что и всегда: усвоило критику, стерилизовало ее и выставило на продажу те ее аспекты, что проще было сделать привлекательными. Воплотилась некая версия «Нового Вавилона» — версия эстетическая, но не политическая или утопическая. Свершилась революция совсем иного рода, и эти двое знали об этом. Констант в 1974 году вернулся к живописи. Спустя двадцать лет Ги Дебор приставил к виску пистолет и спустил курок.
За пару лет до того цитировать ситуационистов вошло в моду. Немногим, однако, удалось превзойти их в критике современного общества. Мы все сегодня верим в «Вавилон», хотя о том, насколько это ново, можно поспорить. Он кажется новым. Старый город родился вновь. На его улицы вернулись жители. Деньги потекли по его жилам. Он изменил свой облик. Постоянно меняющийся организм Константа, полный интенсивного опыта, его гигантская игровая площадка, «атмосферный музыкальный автомат» возвели архитекторы, пришедшие ему на смену, — те, кто придал буквальные, если не духовные или политические очертания его воронкам в многосенсорных каплях, осколках и клиньях. Они разделяют эстетические задачи большей части архитектуры модернизма — массовая архитектура для массового общества — в формах постмодерна, расколотых и разнородных, для расколотого и разнородного общества. Архитектура может быть любой — какой угодно и без каких-либо ограничений. Ибо сегодня архитекторы оставили политические задачи большей части архитектуры модернизма. Избавившись от обязанности исправлять предпринимательский город зрелища, создавшие его архитекторы сделались его вольными или невольными апологетами. За немногими исключениями, их реакцией на появление города-предпринимателя было — не бросить ему вызов, но (как только замаячила опасность для их традиционной роли и положения в обществе) принять его, приспособиться к нему на его же условиях. Только архитекторы могли создавать прекрасное. Лишь архитекторы могли создать город зрелища. Фрэнк Гери сказал мне как-то в отчаянии: «Мир сейчас напоминает грузовик, несущий с вершины холма со скоростью девяносто миль в час. Ты можешь стоять и ждать, пока тебя переедут, или прыгнуть в кабину и вцепиться в руль». Но куда они повернули руль: вот в чем проблема.
После экономического кризиса 2008 года общим местом стало говорить, что так называемая знаковая архитектура умерла. У кого теперь есть довольно денег, чтобы создавать зрелища? Я потерял счет статьям, в которых утверждалось, что будущее — за архитектурой лоу-фай, рукотворной, незнаковой. И действительно, целая когорта архитекторов нашли в себе силы для демонстрации альтернативы зрелищности. Швейцарский архитектор Петер Цумтор, возможно, работы которого проработаны и далеки от эпатажа, апеллируют, как и положено, к массе и тактильности, а не к изображению и воздушности, как-то однажды сказал: «[Это как] медленный поток. Медленная архитектура — ха, думаю, так».
Но такого рода архитекторы в реальности противостоят только эстетике зрелища, а не лежащей в его основе политической экономии. Они просто создают свои собственные версии эстетических утопий, созданных их более эффектными соперниками. Это не вызов миру, но лишь убежище от его разлагающего воздействия. На производство медленной архитектуры, подобно как медленной, органической пищи или кофе ручной сборки в ремесленной кофейне, требуются время и средства. Но это не выход для планеты с населением в 7,4 миллиарда человек, которое продолжает расти — не выход без серьезной адаптации к обществу.
Эпоха зрелища — и свободного рынка, который служит ее мотором — сегодня все еще на дворе. Однако в городе, подвергшемся джентрификации, свободный рынок едва ли по-настоящему свободен — он попросту открыт для самых высоких ставок. Есть ли у нас власть сказать «да» или «нет» тому или иному зданию? Право на город сменилось правом купить его.
Вместо того мы, кочевые жители современного города зрелища, послушно обходим его как пассивные туристы, страдающие из-за вечной нехватки впечатлений. Свободный рынок предвосхищает, стимулирует, манипулирует и удовлетворяет желания своих подданных — за известную плату. В нем не хватает свободы. Мы — все еще не архитекторы своих жизней, о чем мечтал Констант. Жизнь в современном городе остается утилитарной рутиной, высокоэффективным процессом извлечения труда и денег из населяющих его жителей. И мы счастливчики. Город зрелища стал для кого-то симпатичнее, но, как могут подтвердить те, кто проживает в ветхих кущах с немилосердно высокой арендной платой, или кто был выселен с недавно приватизированных земель, лучше он не сделался. Это город, который большинство из нас посещают, но не населяют, не говоря уже о том, чтобы им владеть. Мы арендуем город и его архитектуру по часам.
Как результат, архитектура сделалась сегодня предметом роскоши. В ее худших проявлениях она рассчитана скорее на то, чтобы ее разглядывать, чем на то, чтобы в ней жить, спроектирована для фотокамеры, для щекотания зрительных нервов; она как будто пытается поддерживать с нами диалог, напоминая нам гигантские кальсоны или резвящихся рыб. Но это зрелище маскирует скрывающуюся за ней структуру власти и закрывает нам глаза на альтернативные истории, которые можно было бы рассказать. В лучших проявлениях это — интуитивный опыт для всех пяти чувств, если у вас есть деньги, чтобы за это платить. Так или иначе, это нечто, что подлежит потреблению — продукция, брендшафт, нечто, поданное нам как пассивным получателям — то, что мы не можем контролировать. Так или иначе, это нечто никогда не сможет ни отражать, ни удовлетворять запросы общества во всем их многообразии.
Все, что требовалось от архитекторов — каким-то образом включать в беседу нас, тех, кто живет в зданиях, кто в них спит, играет с детьми в конструктор, спорит, скучает за компьютером, дремлет перед телевизором. Вместо того, чтобы пытаться предугадать или, что хуже, стимулировать наши желания, манипулировать ими, они могли просто спросить у нас. В основном они решили не делать этого. Архитектура, исторически едва ли не самая инклюзивная, разноплановая из профессий, замкнулась в себе ради собственной безопасности.
Возможно, она еще раскроется. Может быть. Не исключено, что в архитектуре произойдет (или уже происходит) смена поколений, как это имеет место прямо сейчас в политике, экономике и других формах культуры; что миллениалы или постмиллениалы, устав от истеблишмента, сотрут с лица земли его зрелищные памятники и устроят более человечную, инклюзивную среду благодаря невообразимым пока революциям в том, как возводится архитектура и строятся города — при помощи дронов, может, или роботов, или просто ценой пота и слез тех, кто будет их населять.
Ситуационисты полагали, что силы критики и диверсий высвободят другие нарративы о городе, погребенные под зрелищем, — довольно для того, чтобы обеспечить демократические социальные перемены, преобразить жизнь. Смысл этой новой жизни заключался в том, что она должна быть основанной на широком участии, кооперативной и коммунальной. Мы не должны оставаться пассивными наблюдателями. Мы должны принимать участие и изменяться вследствие опыта. Нам должна быть предоставлена власть самостоятельно создавать места нашего обитания, наши города, большие и малые, нашу архитектуру. Только тогда мы по-настоящему почувствуем привязанность, принадлежность земле под нашими ногами — путем сплетения богатства обычного человеческого опыта с производством и опытом возведения ландшафтов, в которых мы живем, созидая в городе маленькие утопии, с которых могут начать распространяться перемены. Возможно, что в зарождающемся движении против джентрификации в больших и малых городах по всему свету, в кампаниях за доступное жилье, налог на повышение стоимости земли или «право на город», возвращается нечто от того революционного духа коммун, что мы видели в Ковент-Гардене и в бесчисленных других городах в 1960-х и 1970-х годах. Вопрос сегодня, так же, как и тогда, заключается в том, каким образом убедить объединиться в эти ненадежные коалиции столь разных людей; и даже если это хрупкое единство удается достичь, за что (и против чего) им бороться. Находиться в оппозиции просто. Выходить с альтернативой городу-предпринимателю — вот в чем загвоздка.
Мы помним, Констант полагал, будто ключом к счастью будет технология. Лишь она способна вооружить горожан свободой придать формы местам, в которых они проживают, своим собственным жизням. Архитекторы, градостроители и политики — все они должны остаться в прошлом. Мы должны стать архитекторами наших жизней в le grand jeu à venir — той большой игре, что еще впереди. Его идея города, подключенного непосредственно к желаниям горожан, предвосхищает появление интернета. Может статься, что, как считает Марио Карпо, более коллаборативная культура компьютерных вычислений с открытым кодом, более коллаборативная натура цифровых аборигенов попросту заменят конкуренцию свободного рынка кооперацией, породят своего рода анархизм с «самоорганизующейся» архитектурой вроде термитников или скрытых структур кодирования, созданных приверженцами «Линукса», демократизирующих исподтишка даже такие наименее демократичные отрасли промышленности, как архитектура и оборот недвижимости. В книге «Вместе. Ритуалы, удовольствие и политика сотрудничества» социолог Ричард Сеннет предлагает именно подобную общественную, кооперативную альтернативу современному обществу, в котором конкуренция слишком долго ценилась выше консенсуса. Дистанцированное «наблюдение», а не то, что Сеннет называет «взаимным ритуалом», зародилось во время Реформации; спустя столетия оно превратилось в патологию в западном обществе — тем более в современном обществе, которое социальные сети сделали еще более гиперактивным. По утверждению Сеннета, когда мы барабаним по клавиатуре компьютеров, озабоченные нашей виртуальной идентичностью в Сети, физически мы отчуждены друг от друга более, чем когда-либо на протяжении столетий. Город должен стать более общественным. Возможно, та большая игра все еще остается впереди, не сыграна по-настоящему. Пожалуй, что и так. Тот город по-прежнему еще только предстоит построить. Говорить о том слишком рано. У меня есть тайное подозрение, однако, что после спорных выборов американским президентом Дональда Трампа, в эпоху растущего национализма, когда между народами и нациями вновь воздвигаются стены и барьеры, физические и социальные, даже в пределах одного города это остается просто хорошим пожеланием со стороны тех, кто смотрит в телескоп не с того конца.
До тех же пор город зрелища будет продолжать расти. О чем может свидетельствовать визит в Гонконг, Каракас, Рио, Бангалор, Пекин, Шанхай или в любой из множества новых китайских мегаполисов. Архитектурное зрелище, зрелищность живы, как никогда. Правда: они растут и растут, и становятся при этом все более дикими. Стоит только объявить Бурж-Халиф в Дубае самым высоким зданием в мире, а новый проект возвести здание вдвое выше уже тут как тут. Зрелищное здание живет, как и породившие его условия — глобальный капитализм, революция в средствах массовой информации. Изменились его цели, очертания и местоположение. Архитектура попросту мигрирует, как то было всегда, вслед за деньгами и властью. Город зрелища — прощальный подарок Запада новому миру.