Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Россия в глобальном конфликте XVIII века. Семилетняя война (1756−1763) и российское общество. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Под редакцией М. Ю. Анисимова, Д. А. Сдвижкова, при участии С. В. Доли. Содержание
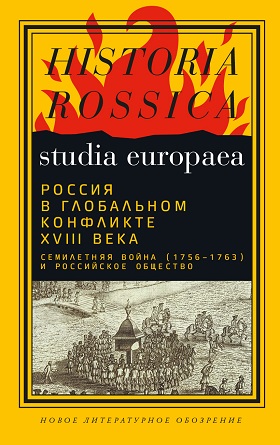 Денис Анатольевич Сдвижков. Россия в эпоху Семилетней войны по личным свидетельствам: проблемы и возможности
Денис Анатольевич Сдвижков. Россия в эпоху Семилетней войны по личным свидетельствам: проблемы и возможности
Не менее важную часть военных усилий страны составляет, скажем так, ее идеологическое обеспечение — легитимация войны и мотивация ее участников. При этом надо отдавать себе отчет в специфике России середины XVIII в. с ее самоощущением юного государства, начинающего свою историю с Петра Великого. Военная империя, облик которой принимает это государство, определяет формы и семантику самоутверждения через «дела Марсовы», «славу»: ее отец-основатель — государь-полководец (roi connétable), ее время отсчитывается в елизаветинских календарях «от победы, полученной под Полтавою», символически совпадающий и с годом рождения царствующей императрицы; престиж империи растет и падает с успехами и неудачами армии, а степень ее цивилизованности определяют по поведению этой армии. Поэтому столкновение с лучшим полководцем Европы для нас — больше, чем просто баталия, это момент истины, надежда, что «новым осветит победа нас лучем / А мы прославимся как прежде под Полтавой».
Пафосные оды придворных поэтов и слова проповедников дают представление о стратегиях власти (хотя и здесь есть нюансы). Сведения же о реальном восприятии войны и на «фронте», и в «тылу» обнаруживаются в личных высказываниях. Семилетняя война едва ли не первая в Российской империи, где мы можем увидеть это восприятие, хотя бы фрагментарно.
Представление о войне как «общем деле» вместо «военных отрад» суверена меняет политический лексикон, публичное пространство как таковое. Масштабы происходящего в России пока несравнимы с рождением модерного патриотизма в Пруссии, публичными кампаниями во Франции, военным ажиотажем и дебатами в Англии. Но все же и у нас в чтении, передаче, обсуждении событий, в связывании жизни своей и своего окружения с происходящим в масштабах всей страны и международной политики начинает формироваться общественная среда, какой мы ее знаем со второй половины XVIII в. Наряду с реляциями, прочитанными с амвона, они расходятся в печатном виде. Сцена с чтением газеты, изображенная Ж. -Б. Лепренсом под впечатлением своего вояжа в Россию 1758−1762 гг. в числе его прочих «рюссри», фантазийная, но не беспочвенная.
Накануне войны Конференция сетовала, что «здешние газеты» «не весьма любопытствуются». Однако с начала войны регулярный тираж «Санкт-Петербургских ведомостей» с приложением к ним непрерывно рос, и это не считая отдельно выпущенных многотысячными тиражами реляций о сражениях, а также раскрашенных карт и журнала военных действий. Востребованность печатной продукции видна, к примеру, по тому, что в книжной лавке Московского университета многие номера «Московских ведомостей» за триумфальный 1759 год раскуплены полностью.
Помимо цифр, о публичном интересе свидетельствуют отклики на военные известия в виде реляций и бюллетеней, переписанных, вклеенных в дневники, снабженных глоссами. Уже знакомый нам капитан Я. Я. Мордвинов, помимо полкового «Маршрута», на протяжении «Прусского похода» собирает печатные листы и переписывает от руки в отдельные тетради важнейшие реляции и рескрипты о событиях войны, которые затем переплетает вместе с популярными в армии текстами — «Солдатскими разговорами» и «Разговором короля пруского с фелтмаршалом ево Веделем», — а также маршрутом возвращения своего полка в Россию в один конволют «Прусские реляции». Как и в «Маршруте», здесь проставлена цена (1 р. 25 коп.). Подобные же тетрадки заводят в Прусском походе А. Т. Болотов и И. Г. Мосолов. Переписанные реляции и материалы о кульминационных событиях войны нередко попадаются и в сохранившихся рукописных сборниках.
Высказыванию своей позиции способствуют очень выборочная (в сравнении, скажем, с мощным контролем в Пруссии) цензура почты в России и то обстоятельство, что нередко письма отправляют с оказией. Тем не менее опасения доверять конфиденциальную информацию бумаге присутствовали. Искушенный в интригах Яков Толстой, наставляя сыновей, остававшихся в Петербурге, писал с марша: «Писма мои не разбрасовайте, сами читайте и за замком держите. Многая пишу иншая и неподлежащая, неравне дастанутца зладею в руки».
Из «неподлежащего» в письмах Якова Ивановича «зладей», скорее всего, мог бы извлечь как раз его отношение к войне. Для Толстого, повоевавшего в кирасирах при Минихе и достигшего потолка карьеры, издержки войны превышают возможные выгоды. В его интерпретации (как-никак командующего полком самого грозного рода кавалерии, с которой Зейдлиц в Пруссии совершал чудеса!) государственно-патриотические резоны отсутствуют напрочь, есть только борьба милостивцев с недоброжелателями и высшие силы. «Вижу я, — пишет он, к примеру, в декабре 1758 г., — что некоторым прискорбна, что я здесь. Весма желают, чтоб дали был. Што ж делать, Господь милостив, грозную тучу он разносит. <...> Уже мне немнога дослуживать, а буду употреблять меры укрыть себя».
Молодые честолюбивые офицеры гвардии, наоборот, осаждают просьбами об отправке в армию — хотя и не месить грязь в полевых полках, а в свиту главнокомандующего или волонтерами к союзникам. Военный энтузиазм неотделим от разумного эгоизма, надежд на ускоренное производство: «Матушка <...> сын тво<й> ныне уже обер афицер, к тому в ранге подпорутчичем, слава, слава, слава Богу, по милостье твоеи дослужилса я обер афицерскаго чину, ну не завидно ли московским моим знакомцам будет, в Москве не выслужат чину такова»; «An jetzo wer es Zeit sein in diensten da kent man sein Glick machen» (Ныне время быть на службе, здесь можно сделать свою фортуну). Вряд ли и поручик Лукин усиленно просит перед Пальцигской баталией «быть при фронте» исключительно чтобы «доказать верность отечеству»: только «действительное бытие на баталии» гарантировало производство.
Критическая рефлексия о войне возникает при столкновении с ее реалиями. Не будем обманываться, отвлеченный «антимилитаризм» — удел разве что высшего эшелона культуры. Для непосредственных участников событий естественен страх смерти, который перевешивает абстрактные идеалы: «Как укокошат молодца по примеру других, так и все беси в воду. В меня попасть может, как в других, и тогда славься себе, пожалуй, и утешайся тем, что умер на одре чести»; а также только что открытые «меленколия» и «гипохондрия»: «Не приходят паверь душа моя на разум никакие те утехи, те которые прежде нас веселили, они толко тенью глазам нашим и в самые бывают те часы, в кои мы веселитца случай находим»; и, наконец, кризис расхождения военных реалий с идеальными представлениями о войне и военной службе. Не случайна перекличка писем в конце тяжелой кампании 1758 г., жене: «Voilà, mon chère cœur, les délices de la guerre, voilà pourquoi nous faisons des marches pénibles, supportons toutes les fatigues et toute misère. Pourquoi? — pour mourir comme un chien ou pour faire mourir les autres» («Вот, сердце мое, что за отрады войны, вот ради чего мы совершаем тяжелые марши, терпим все тяготы и невзгоды. Ради того, чтобы сдохнуть, как собака, или прикончить других») и брату: «Вот какое наше бедное состаяние. Работай как лошадь, будь безпакоен как гончая сабака, разаряйся без повароту, жди смерти еже минует, но либо уроду быть потерянием руки и ноги, а воздаяние <...> будет равное как без чесному трусу, так и чесному человеку...» Тут характерно и употребление категории «чести», и то, что автор последнего письма, родственник М. М. Щербатова кн. П. Н. Щербатов, по возвращении из Заграничной армии попал под арест за критику «шуваловских» гаубиц.
Хорошо различимы перемены общественного настроения в ходе войны. Начальное воодушевление привыкшей к победам империи: «Боже мой — какая армия! отроду подобной не видал; истинно все сезары, жадности такой, какая в них во всех генерално, как в солдатах, татарах, калмыках, казаках, так велика, что, ежели бы кто мне рассказывал, я бы не поверил»; восторг первых военных удач: «Как известие я получил <...> что Мемель взяли, истинно пьян напился с радости. Дай Бог щастье нашей всемилостивейшей государыне и непобедимому ее оружию!» — сменяются шоком от апраксинской «ретирады» 1757 г.: «Что же касаетца до батали 19, хота и не очень ваенная полза праисведена, праисосла, отнаго же мы победители могли остатца. Что же затем безумная и скоропастижная ретирада последовала <...> хуже зделать нелза».
Насколько всеобщим был этот шок, видно и по тому, как долго апраксинская «ретирада» оставалась в коллективной исторической памяти. Иллюстрацией может служить народная версия о предательстве «енарала Апраксина», который продался «немецкому Федору» за бочку золота. Легенду со слов своего отца, капрала в Семилетнюю войну, пересказал М. И. Семевскому старик дворовый из-под Вязьмы спустя сто лет после несчастной кампании.
Надежды на «русский каток» и блицкриг развеиваются. Следующий 1758 г. приносит кровавую ничью при Цорндорфе с невиданным списком потерь: «не остался почти ни один дворянский дом в России без огорчения, и который бы не оплакивал несчастную судьбу какого-нибудь своего ближнего или родственника».
Новым апогеем интереса к войне становится триумфальный для русских 1759 г. При известии о победе при Пальциге 12 (23) июля 1759 г. В. А. Нащокин не может сдержаться и подписывает на полях вклеенной в дневник печатной реляции: «Дай всемогущий боже впредь победное над неприятелем счастие, и сия реляция безпристрастно и воинским порятком достойная похвалы графу Салтыкову». Чрезвычайный посланник кн. Г. И. Шаховской пересказывает реляцию о победе при Кунерсдорфе, полученную на пути в Константинополь, с эмоциональным подъемом, заимствуя героическую формулу vincere aut mori: «Король пруской уведомясь об оном нещастиии армии ево <...> пошел для отмщения, НО наш генерал заблаговремянно избрав пристойную сетуацию (так!) и распределя, принял со всею армиею мужественную резолюцию или победить или умереть...» Впервые после Петра I выбита специальная медаль «Победителю над прусаками» для награждения и нижних чинов; в подражание его победам составляется специальная церковная служба; реляции о русском триумфе достигают Константинополя и даже далекого Пекина.
То, что и военный энтузиазм не ограничивается элитами, доказывает огромная популярность сочинения «Разговоры прусского короля с фелтмаршелом его Венделем июля 31 дня 1759 году». «Разговоры» распространяются и в виде текста, как в упоминавшемся рукописном сборнике Я. Я. Мордвинова, и как подпись к нескольким вариантам лубочных картинок. В них смешаны воедино эпизоды трех битв — Цорндорфской, Пальцигской и Кунерсдорфской, но в центре, несомненно, последняя («кроль и с фельтмаршел жестоко наступали как гладные звери...»). Списки «Разговоров» есть практически в каждом большом собрании рукописей, а их копии датируются вплоть до середины XIX в.
«Еще победа — и конец, / Конец губительныя брани», — полон в 1759 г. надежд М. В. Ломоносов. Однако и с Кунерсдорфом новой Полтавы, которую все ждут, не случается. Нарастает усталость от войны: в солдатских песнях, ей посвященных, в изобилии представлены драматические события 1757 и 1758 гг. (тут, что любопытно, Кунерсдорф полностью пропущен), последний всплеск интереса — к взятию Берлина осенью 1760 г. Дальше же только о том, как «сенатóры» предлагают «кралю пруцкому» мир.
Вместе с усталостью растет глухое недовольство. Как водится в России, оно адресовано не напрямую главной фигуре у власти, а политике фаворитов, сфокусированной на клане Шуваловых, и выражается в форме слухов. Практически в каждом письме Я. И. Толстой сообщает жене: «ничево новова нет, а слышно якобы...», «о походи нам не слышна, а говорят якобы...». При формальном отсутствии того, что называется публичной сферой или, в терминах второй половины XVIII в., общим мнением, оно обнаруживается как реальный фактор именно по реакции на слухи имперской власти. В августе 1758 г. солдат Герасим Шадрин кричал на улице по слухам с рынков, что «российское войско все померло от графов Шуваловых и разбежалось». Взяв Герасима в Тайную канцелярию, власти, однако, не ограничиваются репрессиями и не остаются глухими к критическим голосам снизу, даже если и именуют их «глупыми» и «жесточайшего наказания достойными слухами». Еще в феврале 1758 г. в «Ведомостях» публиковалось официальное опровержение «нескладных вымышлений» о детище П. И. Шувалова, Обсервационном корпусе.
Зимой 1760 г. для пресечения «злонамеренных слухов» уже в самой армии устраиваются показательные сравнительные стрельбы из старых и новых орудий, так называемых шуваловских гаубиц. Первоначально планировалось устроить такие стрельбы «во всех местах армии», затем решили ограничиться одной демонстрацией в Мариенвердере, собрав туда генералитет и прочие армейские чины. При этом возник любопытный конфликт: в Петербурге специально делали акцент на присутствии при стрельбах нижних чинов, чтобы «вкоренившееся сумнение о новой артиллерии в армии, а особливо в рядовых солдатах уничтожить». Эти меры шли в том же направлении, что и увещевания солдат после Цорндорфа, когда по настоянию Конференции осенью 1758 г. в ротах еженедельно зачитывали высочайший манифест с осуждением «ослушания» и «мерзкого пьянства» на баталии для «лутчаго салдатам вперения». П. С. Салтыков, однако, даром что «простенький» и «полюбившийся солдатам», вполне разделял прусское «Nicht räsonieren! Ordre parieren!» («Не рассуждать, держать строй!»). Он настаивал на необходимости «безмолвного послушания», чтобы не дать солдатам «повода к рассуждению». Петербург остался верен своей тактике: «слепое подчинение» необходимо, но достигать его следует убеждением нижних чинов, предписывая, чтобы офицеры «рядовым при всех случаях толковать и внушать старались, для вкоренения в них большей на новую артиллерию надежды». Результаты стрельб были опубликованы в печатном виде в Прибавлении к тем же «Ведомостям», широко распространялись по всей стране в форме сенатского указа «во опровержение произнесенных неосновательных слухов», было выпущено нечто вроде FAQ по эксплуатации новых орудий, а М. В. Ломоносов откликнулся по случаю на «всерадостное объявление» апологией трудов Шувалова «для пользы общества».
Однако разгром и бегство «шуваловцев» сначала при Цорндорфе, а потом при Кунерсдорфе были убедительнее опровержений. Немыслимо дорогостоящий, но оказавшийся недееспособным Обсервационный корпус воспринимается как «опричная армия»: «армия сия, сочиненная из лутчих людей государства, пошла в поход противу прусских войск, много потерпела, ничего не сделала». В числе «лутчих людей» погибший подполковник 5-го Мушкетерского полка корпуса, старший сын Прасковьи Глебовой Николай. И вот перед очередной кампанией 1760 г. зятя Прасковьи не отпускают из армии, а мужа, генерал-поручика И. Ф. Глебова, уже назначенного было губернатором в Киев, по настоянию Придворной конференции отправляют в Заграничную армию для устройства тех самых показательных стрельб в Мариенвердере в пользу шуваловских изобретений. И тогда Прасковья Ивановна в отчаянии высказывает все, что, похоже, не одна она думает про затеянную непонятно ради чего войну: «Если можна хатяп и при атезде наудачу папрасить, што атпустили, да кажеца бы шефу вашему и можна хатя тем твой трут заплатить. Он чаю стька знает, што етат пахот ни за Бога, ни за себя, а как макавеи за свиные меса». Иными словами, Прасковья Ивановна, готовясь к принятию пострига и зная Библию, по-своему (вопреки канонической версии церкви) толкует эпизод из Ветхого Завета и подразумевает, что Прусская война для России столь же бессмысленна, как война иудеев против навязывания им свиного мяса.
С одной стороны, здесь различим голос оставленных «в тылу» женщин. Прасковья Глебова уже готова была сама ехать к мужу на войну: «Так, батюшка, дешператна, што вчерашней день ужа и падарожная была взета на пачтавые, хатела сама ехать, да удержала меня адно то, штоп тебя в дасаду не вести», а ее замужняя дочь Катя «так воет, да только не смеет прасить тебя аб муже <...> насилу таскаеца».
Однако в более широком смысле это наглядное свидетельство сложностей легитимации далекой войны для, условно говоря, массовой публики. Для нее в восприятии «странной войны» (А. Т. Болотов) не работает официальная риторика, подытоженная в поэтической форме Ломоносовым в конце 1757 г.: «против брани брань», «свирепой Марс в минувши годы / В России по снегам ступал / Но ныне и во время зноя / Не может нарушить покоя».
В то же время элита империи, люди, владеющие широкой перспективой, видят в удаленном статусе войны свидетельство могущества и продолжение стратегических выгод, когда «благопоспешеством Божием Россия тиатра воен в своих границах многие веки прошли как не имела». И зная положение дел в других воюющих странах, по достоинству оценивают, что «не видят оные пред стенами своими опасного неприятеля, не слышат грому и молний от огнестрельного оружия происходящих, не укрываются от бомб, ядер и пуль летающих, не видят блистающих мечей».
Наряду с проблемами легитимации войны и экономических трудностей постоянны жалобы на усугубляющийся кризис внутренней безопасности. Ибо помимо внешней, как метко замечает С. М. Соловьев, «войско надобилось для внутренней войны». Структурные проблемы «недоуправляемых» территорий Российской империи наглядно проявлялись в отсутствии общеимперской системы полиции, эрзацем которой служила армия. Положение усугублялось из-за неразберихи с введением при Елизавете Петровне моратория на смертную казнь. В войну с ослаблением присутствия военных волнения и разбой достигают максимума. Осенью 1756 г. правительство заявляло, что определенные ранее для борьбы с ними «армейских полков команды по нынешнему движению возвращены в полки», а между тем разбои и «разбойничьи станицы» появились не только по окраинам, но и около Москвы. В связи с чем назначенным сыщикам предлагалось довольствоваться иррегулярными, а где их нет — организовать крестьян. А вот как это работало: «Намерение имела в дом возвратитца, — пишет Е. А. Толстая мужу в армию летом 1760 г. из Осташкова, — но за опасностию остановилась. Являютца в некоторых местах по 10 человек знать што разбойники <...> Аднаво дворенина разбили, и после таво их сотцкие, собрався многолюдством, прогнали». Леонтий Травин в 1759 г. не помышляет возвратиться с уральских заводов к себе в Псковскую губернию, ибо «проехать собственно собою за опасностью разбойников нет способу». «Ныне у нас и в деревнях жить опасно: грабят, убивают, жгут и душат понапрасну, — пишет А. Т. Болотов приятелю в начале 1761 г. — Сказывают, что разбои у нас весьма умножились, так что и из полтины режут».
Вопреки позднейшему убеждению о всеобщей ненависти к Петру III, мнения о заключении сепаратного мира с Пруссией у современников отнюдь не столь однозначны. Известно об устойчивой популярности Петра Федоровича среди солдат, питавшейся теми же слухами, что он «прилагает свое старание о солдатстве» и просит государыню их «кнутом не шемповать». Упоминавшийся выше солдат Герасим Шадрин свое обличение Шуваловых начал с того, что «де долго не садится на царство великий князь Петр Федорович». Недовольство в армии и гвардии в 1762 г. вызывала перспектива грядущей новой войны с Данией, в то время как мир с «Федором Федоровичем» приветствовали не только придворные: «La Paix est le but désirable auquel il souhaite d’atteindre <...> Des avantages douteux achetés par une perte réel seront les seuls fruits à espérer de la continuation de cette sanglante guerre» (Мир составляет желанную цель, к которой он стремится <...> Единственные плоды, которых можно ожидать от продолжения этой кровавой войны, — сомнительные преимущества, купленные ценой реальных потерь), — пишет назначенный камергером А. С. Строганов, но и военные: как и для многих остальных, для тогдашнего подпрапорщика Ивана Андреева в далекой Сибири в одном ряду с отменой «слова и дела» и Манифестом о вольности дворянства стоит «замирение Пруской войны, которая весьма жестоко, с великим государственным вредом, продолжалась с 1754 г.».
