Залог светлого, русского счастья
Фрагмент сборника «Окраины России в позднеимперскую эпоху»
Начиная с конца 1905 года черносотенный Союз русского народа стал издавать «Русское знамя» — газету, которая последовательно развивала идеи русского национализма. Его основу черносотенцы усматривали не столько в верности традиционным ценностям, языку и даже православной религии, сколько в осознанном служении самодержавной власти и Российской империи. Об этом, в частности, говорится в статье Василисы Бешкинской из сборника «Окраины России в позднеимперскую эпоху», с фрагментом которой «Горький» предлагает ознакомиться своим читателям.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Окраины России в позднеимперскую эпоху: Политика правительства и национальные проекты: сборник статей, документов и материалов / Под общ. ред. А. Т. Урушадзе. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. Содержание
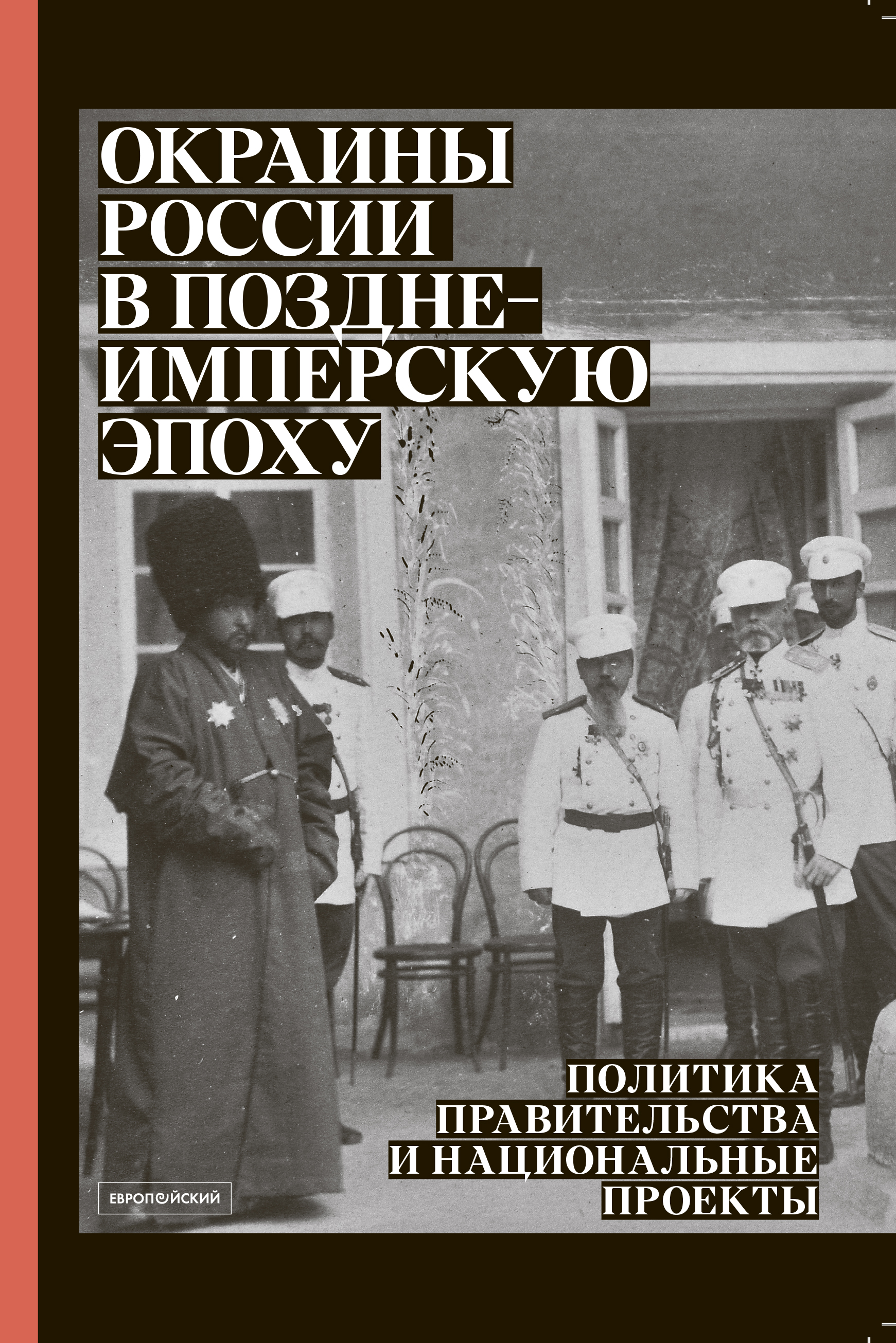
Газета «Русское знамя», первый номер которой вышел 27 ноября 1905 г., была центральном печатным органом самого многочисленного политического объединения Российской империи — черносотенного Союза русского народа (СРН). В последующих расколах СРН «Русское знамя» оставалось официальным печатным органом направления, возглавляемого Александром Ивановичем Дубровиным, и представляло крайне правое крыло монархического движения.
Цель этой статьи — уточнить позиции рупора дубровинского движения черносотенства и проследить логику использования националистического дискурса авторами издания. Риторические стратегии конструирования «русскости», понятия и образность националистических и антисемитских выступлений в «Русском знамени» — предмет данной статьи.
РУССКИЙ: СВОЙ И ЧУЖОЙ
Комплекс понятий, используемых в «Русском знамени» для описания российской государственности — империи и самодержавного строя, — одновременно применялся в описании русской национальной идентичности: национальной территории, русского характера и народных ценностей. Образ родины русского человека конструировался с помощью мифологем и смыслов, связанных с представлениями об имперском характере государства. Разные по эмоциональной и образной нагрузке понятия «Святая Русь», «Отечество», «Россия», «Родина» и «империя» употреблялись синонимично и отсылали к представлениям о национальной самобытности русской народности, которая была выражена в особом самодержавном и православном характере.
Мифологема Святой Руси в этом ряду занимала центральное место. Зачастую она замещала понятия «народность» или «отечество» в трехчастных триадах: «…сейте неустанно святые слова, близкие каждому честному сердцу — вера Православная, Царь Самодержавный и Святая Русь!» Это религиозное понятие, мобилизованное в Отечественную войну 1812 г. и претерпевшее к началу ХХ в. заметную смысловую инфляцию, не объяснялось содержательно в текстах газеты, однако использовалось дубровинцами в новом нарративе — в контексте защиты русских святынь от внутренних врагов. Концепция Святой Руси периода Наполеоновских войн звучала синонимично понятию Отечества и осмыслялась в границах русского государства в большей степени как территория и история этой территории и народа, завоевавшего и населяющего ее. В «Русском знамени» она обрела еще более метафорическую форму и использовалась для описания России в ее разобщенном, конфликтном состоянии через фактор противостояния идентичностей. Святая Русь здесь — это сообщество территориально разобщенных, не находящихся в прямом контакте друг с другом подданных империи, верных общим принципам, русским святыням, — православной вере и неограниченной самодержавной власти, «Алтарю Божьему и Престолу Светлому Государеву». Эта идея была четко проговорена в первом программном номере газеты и подробно развита в материалах первых двух лет ее издания: «Но верь, Государь, что народ Твой, в огромном большинстве своем, непричастен к этой смуте, и по первому призыву твоему готов сплотиться вокруг Тебя, на защиту Православной церкви, Престола и Отечества. Не оскудела еще людьми Святая Русь».
«Святая Русь» была использована дубровинцами как мобилизующая риторическая антитеза антимонархическому движению в стране, а не в контексте межгосударственного политического или культурного противостояния. О евреях, собирательный образ которых стал ключевым в описании внутренних врагов самодержавной России, в «Русском знамени» писали: «Иудеи, распявшие Христа, ныне распинают святую Русь, нашу Мать и Кормилицу». Однако не только инородцы выступали врагами Святой Руси. Идентичность внутреннего врага русских людей описывалась вне этнических трактовок, одной из ключевых характеристик было предательство заветов русского прошлого, обычаев, традиций: «…неведомая доселе кучка людей, народом не признанная, самозванная, стала издавать свои распоряжения, противные всякому праву и обычаю, всяким законам, заветам прошлого, всему, что для всякого истинно русского человека есть любовь к отечеству и священный долг». Русский человек в такой интерпретации не мог быть сторонником изменений привычного образа жизни подданных российского государства и его самодержавной формы правления. Святая Русь «скудела» русскими людьми, когда последние предавали православную веру, принципы патриотизма и «заветы предков», созидавших государство. Русские по крови и православные по крещению подданные империи в такой ситуации переставали быть истинно русскими людьми, становясь «потерянными детьми царицы Православного мира — Святой Руси». Причиной этому могло быть не только осознанное предательство русских святынь: «Одни, бездомные и голодные, из всякой без разбора руки хлеб хватают… <…> Другие потеряли крест с шеи и забыли — кто они, что они. Третьи продались душою и телом кагалу, армянам, полякам и разным европейским бродягам и сделались наемными грабителями, поджигателями и убийцами». Сохранившие же преданность «исконным русским началам» отличались «искренней, мудрой верой в Христа и православную церковь, и преданностью царскому престолу» — качествами, которые, по мнению авторов газеты, отождествлялись с «глубоким, государственным смыслом и любовью к русской родине». Святая Русь, таким образом, интерпретировалась не только с опорой на идею сохранения чистоты православной веры и ее защиты от поругания со стороны врагов православия, как это предполагали ее ранние религиозные трактовки. Сохранение и защита Святой Руси здесь равным образом зиждились и на сохранении самодержавного престола российского императора.
Эта мифологема заключала в себе два основных дискурса, которые использовались движением для мобилизации населения в защиту самодержавия: религиозный и националистический. Так, авторы газеты совмещали традиционный способ легитимации неограниченной власти царя как наместника Бога на земле со стратегией, проводимой с помощью националистической риторики, узаконивания самодержавия как режима правления, обусловленного специфичностью русского национального характера и русской истории. То есть можно говорить о том, что в условиях внутреннего кризиса была развита линия «официального национализма», наиболее отчетливо проявившая себя в период правления Александра III. Образ Святой Руси, используемый для описания традиционной русской государственности, отсылал к религиозной обусловленности самодержавного правления, где русский народ «привык к Царской власти, любит ее и глубоко проникнут сознанием ее необходимости», а у царя, «у Благоверного, одна с верным народом дума, одно чувство и одно желание помочь Святой Руси». В обоюдном стремлении самодержца и народа к сохранению «исконно русских начал» был «залог светлого, русского счастья».
В такой логике именно институт самодержавия, а не православная церковь, подвергался наибольшей опасности со стороны революционного движения: использование в «Русском знамени» этой мифологемы, как и образов национальных святынь, было контекстуально связано с обсуждением политической ситуации в стране, самодержавного правления, его возможных ограничений и революционной опасности для режима. Последовательное и частое использование в текстах газеты образа Святой Руси без привязки к религиозной проблематике как таковой в конечном счете не просто уравнивало представления о чистоте православной веры и незыблемости самодержавного строя в качестве двух ключевых опор Святой Руси, требующих защиты, но риторика первого года издания газеты сформировала концепт самодержавия как центральной, несущей конструкции этой изначально религиозной мифологемы. Следовательно, уже от сохранения самодержавного престола зависела судьба православной церкви. Русский не ограниченный во власти император становился центральным элементом представлений о Святой Руси, где как «Господь объединил все мироздание со Своей Любовью и милостью, так и русская православная семья со Своим Государем Отцом — одна душа, одна стихия могучая, неодолимая». Концепт Святой Руси в риторике «Русского знамени» работал как наиболее эмоциональный образ описания общности русских людей, находящий отклик в религиозной аудитории. Схожим образом в текстах газеты работало и понятие «Отечество». Характерной стратегией использования этого понятия было противопоставление русских людей, сохранивших патриотическое представление об империи как о своем Отечестве, инородцам и русским, которые либо никогда не осмысляли Отечество как таковое (интеллигенция), либо его утратили. Примером гипертрофированного и опасного отсутствия у подданных государственного патриотизма и любви к Отечеству выступали евреи, чье чувство «безотечественности» было «главной причиной их предательства относительно всех стран и народов, среди которых живут». Прочие инородцы империи не признают Россию Отечеством, только в своей области или крае видят родную землю, им безразлична судьба России, тогда как «ясно понимаемый <…> каждым истинно русским человеком девиз, что „Россия — для русских“ и что она обагрена кровью и завоевана, если не им, то его предками, — делает то, что русскому человеку одинаково дороги Финляндия, Польша, Кавказ и т. п. окраины, как и коренная Россия, и „отечеством“ он считает не свои губернии или области, а всю Российскую империю, которая ему принадлежит по праву завоевателя, и за свое отечество он постоит, не щадя живот». Русская национальная идентичность, таким образом, была неотделима от имперской.
Русской нации принадлежала вся имперская территория, истинно русские люди выступали ее хозяевами, а понятие «Отечество» экстраполировалось на все пространство государства. Ключевым объяснительным образом в этих построениях была кровь русского народа, которой символически была обагрена вся территория империи. Присоединение любых территорий связывалось с подвигом русских, но не только военным, где буквально проливалась кровь солдат, а и с объединительным подвигом предков, заключавшимся в их «работе и смерти ради счастья и жизни грядущих русских поколений». Русские «в непрерывных боях щедро орошали своей кровью эту Землю», в мирное время народ «свой труд направлял на ту же Землю, упитанную его кровью», и «Земля, благодарная за кровь, воздавала плодами своими». Этот «тысячелетний обмен плодов земных и народной крови» и «кровавое родство между Народом Русским и Русской Землей» разрушался революционным движением, «инородцами, иностранцами и русскими отщепенцами». Так в условиях вызова автономистских движений газета объясняла своим читателям, в большей степени живущим в Центральной России, почему любое окраинное движение — вызов и угроза для русского народа и его Отечества и почему русским стоит сплотиться для его защиты. Разрушение прежнего государственного устройства, иерархии народов империи или потеря ее территорий означали уничтожение национальной самобытности русских, поскольку именно русский народ был народом-созидателем империи: «Великий народ, написавший свою историю потоками крови своих лучших сынов, затративший миллиарды народных средств и несколько веков времени на свое государственное устройство, не имеет права предаваться отчаянию, утрачивая по дороге свою историю и свою национальность».
Внутренний имперский раскол конструировался не только по линии русского Отечества и малых «отечеств» инородцев. По поводу возвращения в 1908 г. в столицу из США П. Милюкова, лидера кадетской партии, «нерусской» для дубровинцев, «Русское знамя» с негодованием заметило, что Петербург, приветливо его принявший, «вместо того, чтобы изгнать из отечества», в таком случае является «не русским городом». Представители либерального движения, как и русская интеллигенция, трактуемая как широкая группа предателей внутри русского национального тела, таким образом, тоже не имели свойственного истинно русским людям представления об Отечестве и были его врагами. Русская интеллигенция в этой связи сравнивалась с западной: «…образованный француз или немец любит и уважает свою родину, а наш интеллигент свое русское отечество ненавидит и презирает».
В рассуждениях о стране авторы газеты часто писали о «понимании Отечества» или о «понятии об Отечестве». Русский человек не только любил и был предан, но и понимал, что есть Отечество; внутренние враги и отступники намеренно разрушали это представление и патриотические чувства, а некоторые русские люди теряли должное понимание и патриотизм из-за ценностной дезориентации. Подобная утрата зачастую ставилась в укор читателям, а объяснялась — разрушением «прежних основ жизни». «Мы не имеем теперь государства, как единого, сплоченного целого, потому что сумели разрушить понятие об „отечестве“ <…> Мы, наконец, потеряли Бога, потому что, став сумасшедшими, вообразили себя умнее Бога… Да, мы все потеряли, но ничего не приобрели. Не пора ли лечиться? Не пора ли бросить политику и заняться делом?» «Понимать Отечество», таким образом, означало следовать «прежним основам жизни» / исконно русским началам. «Любовь к отечеству и священный долг „всякого истинно русского человека“» — это «право и обычай… законы, заветы прошлого». «Основными лозунгами бытия русского народа» газета называла именно триаду «за веру, царя и отечество».
Наряду с понятиями «Отечество» и «Святая Русь» авторы газеты обращались к понятию «Родина», которое также, пусть и реже, замыкало трехчастные комплексы идеологем: «Встанет русский народ, встанет для защиты своей веры, своего Царя, своей родины. <…> Его изба горит, и он должен спасти ее». Семантически менее нагруженное, это понятие одновременно было столь же эмоциональным, а еще удобным в стихосложении. Большинство опубликованных в газете стихотворений написано в простом для чтения и запоминания двудольном размере (при котором первые два понятия были бы более сложны в использовании). Образ Родины, следовательно, мог выполнять функцию «стихотворного» воплощения представлений об Отечестве, сохраняя в то же время общие для всего комплекса понятий мотивы («защита»/«осквернение», «верность»/«предательство»):
Вы родину продали гнусным жидам,
Желали победы Микадо…
Отцы ваши отдали жизнь за Царя,
А вам его больше не надо.
Разбей кощунственные козни
Клятвоотступников скорей!
Объедини, сплоти из розни
Всех верных родине детей!
Все три понятия объединял ключевой для националистической риторики газеты лейтмотив: семейности, родственности. Представление о русском Отечестве в газете конструировалось не только через образ предков, отцов, а равным образом и через образ императора — отца-защитника русского народа. Как писала газета, русские видят в нем «своего заступника, своего верховного судью и вождя, который отнесется к ним с отеческой заботой и справедливостью». Этот мотив также был центральным в риторике самого Дубровина. Союз, который его лидеры подчеркнуто не называли партией, в «Русском знамени» часто характеризовался как семья (православная, русская): «Как малые ручьи, сливаясь в реки, образуют могучий поток, так и объединились русские люди в родную семью Союза Русского Народа для борьбы за исконные наши святыни». Русские регулярно описывались в газете метафорами сыновей Отечества, Родины, Святой Руси. Заметным в текстах был и образ братьев: «все мы братья, все равны перед Самодержавным Царем и вместе с ним перед Богом». Самодержец был отцом русской семьи, а матерью — «Россия-мать».
Конструкт русской национальной семьи имел в материалах газеты особое звучание в качестве ответа революционному лозунгу «свобода, равенство, братство». Несмотря на то что образ братьев был важным для описания отношений как внутри Союза, так и внутри всего русского сообщества, газета подчеркнуто не использовала понятие братства, а представляла его исключительно в негативном ключе. Бескровному братству противопоставлялась семейственность русского народа, его склонность к традиционному укладу жизни и патриархальным отношениям.
Семейственность выступала особой национальной чертой русского человека, а разрушение традиционных представлений о родстве представлялось одной из причин социального кризиса, развернувшегося в стране: «Мы разрушили семью, потому что сумели противопоставить детей против родителей, втемяшив, путем гнусной литературы, представление о том, что между детьми и родителями нет нравственной связи, а только физиологическая. Мы постепенно разрушаем брачные основы, создавая гнуснейшую порнографическую литературу и приводя в сознание не подготовленных умов иезуитско-подлую тенденцию о праве женщин стать мужчиной». Извращение патриархальных принципов способствовало и политической дезориентации русских подданных, поскольку трансформировало их представление о большой «русской православной семье». «Не будь этой проповеди разрушения семьи, — не было бы безобразного явления участия детей в забастовках», — сетовали авторы газеты. Сама революция подчеркнуто описывалась как «братоубийственная война», что в общем риторическом репертуаре газеты звучало особенно драматично.
Образ семьи использовался и как объяснительная модель для принципов имперского правления, в частности неравенства народов империи: «…каждому ясно, что понятие о братстве возможно только там, где есть понятие о семье. А в семье не без урода. Бывают и блудные сыны. …Не все братья на одну стать. Оттого и братьям при семейной оценке не одинаковая честь, не одинаковая ласка. И в семье нет равенства… Это не логическая формула, а живой реальный факт». Следовательно, из всех братьев (народов), подчиняющихся отцу (императору), главенствующее положение должен был занимать тот, «кто для семьи больше поработал» (русский народ-созидатель), «за это ему и честь, и поклон, и хозяйский голос». Так, младшими братьями по отношению к «покровителям и победителям» великороссам были «малороссы, белорусы и новороссы» — как «ближайшие им по крови и по духу племена, так же как и сибиряки — плоть от плоти и кость от костей их. Да, это все родные братья и сестры и той же семьи. Общность территории и религии объединяет их интересы». Таким образом, вопрос триединства раскрывался через иерархию, которую возглавляла главенствующая русская нация-покровитель, старший брат.
Образ «великого русского народа», созидателя империи и завоевателя огромных земель, имел особую роль. На нем, как на старшем, «взрослом» в имперской семье, лежала почетная ответственность «обдумывать каждый свой шаг и помнить ту великую цель, к которой через века шли все предыдущие поколения», тогда как «маленькие народности» не могли быть допущены к этой миссии, поскольку были «еще малы, не выросли, не нажили ума, не имеют опыта, думают об игрушках и шалостях, тешатся пустяками».
Имперский характер русских был одной из ключевых стратегий, объяснявшей необходимость отстаивать неограниченное самодержавие. В серии программных статей «Россия — для русских» (1906 г.) эта тема являлась основной: «Исключительно для русских нужна Россия с самодержавным царем во главе, для того чтобы удерживать всех инородцев под своей державой и управлять ими, как покоренными народами при участии русских, как покорителей, пользующихся особыми правами и исключительными привилегиями». «В девизе „Россия — для русских“ заключается уже понятие о необходимости для русских самодержавного царя», — резюмировал неизвестный автор.
«Истинно русские люди» при такой интерпретации наделялись специфическими чертами национального характера. Ключевой характеристикой был имперский патриотизм, который выражался не просто в любви к Отечеству, а подразумевал подвиг, жертвенность, самоотверженное участие в делах на благо русского самодержавного государства. Само понятие истинно русского человека имело в риторике газеты синоним «истинный патриот». Газета подчеркивала, что в жизни русского человека «не забывается только самоотверженный подвиг на благо родной страны, работа и смерть ради счастья и жизни грядущих русских поколений». Индивидуальное растворялось в коллективном «русском», которое, в свою очередь, было подчинено интересам государства. При этом смерть зачастую представлялась высочайшим подвигом. Описывая гибель русских в революционных столкновениях, авторы использовали мотив мученичества, который, однако связывался не с мученичеством в защите православной веры, а с патриотизмом и верностью престолу: такие «ежедневные мученики за Веру, Царя и Отечество» и «мученики долга запечатлели смертью свою любовь и преданность Родине», «все они были умерщвлены потому, что были честны, неподкупны, верны Царю и Присяге, все они понимали сердцем благо и величие России». Религиозная стойкость, таким образом, риторически замещалась стойкостью в охранении самодержавия. При этом русский человек должен был помнить и почитать подвиг своих соотечественников, забыть его — «позор и преступление перед Россией».
«Гражданская заповедь» движения, сформулированная в одном из номеров газеты, звучала следующим образом: «…безусловная честность в исполнении долга, безусловная преданность русской земле, безусловная верность русским народным началам, полное согласие с русской народной мыслью и русским народным чувством». Дубровинцы формулировали свои идеи в очевидно традиционалистских и довольно размытых координатах. Например, встречались тексты о «гражданских добродетелях», которыми являются любовь, верность, патриотизм, постоянство, неутомимость, объединение и самоотвержение. В схожем контексте иногда использовалась и терминология, производная от понятий нации и национализма, которая также не раскрывалась содержательно. О революционерах газета писала, что «они издеваются над самыми священными русскими чувствами, они рвут на части наши национальное достояние», в ответ на что «национальное чувство» русского народа растет и ширится. Иллюстративна и формальная сторона последней цитируемой статьи: авторский псевдоним — «Русский», название публикации — «Россия для русских» (газета — «Русское знамя»). Полосы газеты пестрили этнонимом «русский» и всяческими производными от него. Что касается буквального понятия «русский национализм», то авторы обращались и к нему довольно часто, вопреки расхожему историографическому тезису об избегании подобной терминологии: «чувство национализма искусственно усыпляемое в русском народе, еще живо в нем».
Понятие нации нечасто встречается в печати СРН, однако национальная идея была важнейшим аргументом авторов «Русского знамени» при обсуждении массы сюжетов политической повестки. В пик революции авторы подчеркивали, что русский народ «не имеет права предаваться отчаянию, утрачивая по дороге свою историю и свою национальность». В подходе к реформам, как писала газета, стоит руководствоваться «не так называемыми демократическими соображениями, а народными, национальными», а на международной арене «пора наконец жить собственной жизнью создать свою собственную национальную, обоснованную политическую систему» и т. д. Заметим, что понятие «нация» использовалось в газете, но прежде всего в контексте обсуждения международных отношений или западного политического опыта. В этом случае определение вбирало в себя и понятие государства, и понятие народа, авторы писали об английской, американской или французской нации, давая обобщенный образ страны и народа/народов, что ее населяют. Характерно, что определение «еврейская нация» не встречается в текстах газеты, но «еврейская народность», равно как и «еврейский народ» или «еврейское племя», — частые формулировки. Вообще примеры антисемитских высказываний в газете ярко демонстрируют, что нация семантически связывалась с определенной политической традицией и формой государственного устройства. Так, важнейшей негативной чертой евреев был «интернационализм», отсутствие представлений об Отечестве, что делало их «профессиональными предателями народов, за что совершенно справедливо их все нации и ненавидят». Практика же использования понятия «народность» в издании говорит о том, что авторы не вкладывали в него конкретные смыслы, не подразумевали под ним какое-то специфически русское свойство или особенность именно русского национального характера, культуры, ментальности или определенного типа социального уклада. «Народность» в риторике издания — это термин с минимальной смысловой нагрузкой, употребляемый для описания всех народов империи, в том числе малых, не только русского, а также и зарубежных. «Что же надлежит сказать о государстве, в котором 122 народности, а по исчислению других даже 140?» — читаем в рассуждениях газеты о государственном устройстве России. Риторическая практика употребления в газете понятия «народность» не подтверждает тезиса о том, что его можно оценивать как ключевую идеологему движения, и, как следствие, через его анализ невозможно делать выводы о характере и функциях националистического дискурса, используемого дубровинцами.
Таким образом, транслируемые в «Русском знамени» представления о русской национальной идентичности были теснейшим образом связаны с имперским характером русского народа — хозяина прочих народностей и земель по праву завоевателя. Мотивы долга, объединения для борьбы и защиты Отечества, семейственности и сакрализации образа самодержца как отца «русской православной семьи» были центральными. Риторическое оформление аргументации было подчеркнуто упрощенным, отсылало к православному символизму и образам, утверждавшим патриархальный уклад жизни. Используя националистический дискурс и православную образность, авторы «Русского знамени» не прибегали к этническим трактовкам «русскости». При этом понятия нации и национализма не были для них табуированы. Стоит предположить, что на первый план выходили те понятия и образы, которые попросту были более близки традиционалистски мыслящей религиозной аудитории.