Я вот из этого безымянного места
Фрагмент книги Брайана Робертса «Пограничные воды: посреди архипелаговых штатов Америки»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Брайан Робертс. Пограничные воды: посреди архипелаговых штатов Америки. СПб.: Academic Studies Press/БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского Марии Быковой. Содержание
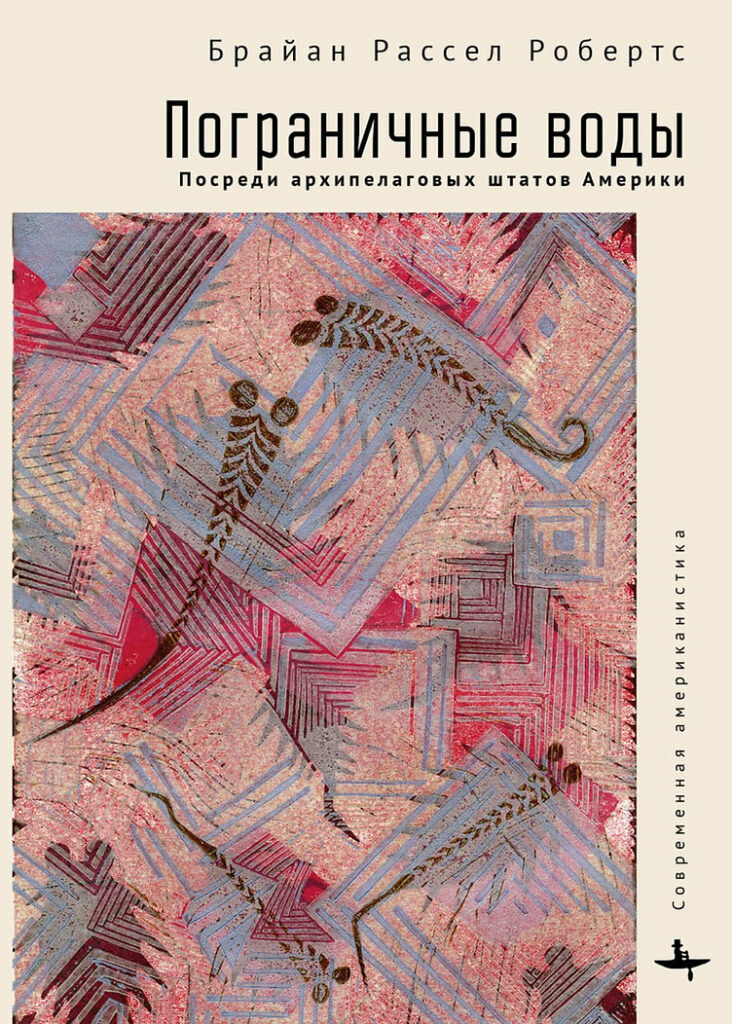 «Приключения Гекльберри Финна» начинаются и заканчиваются в духе того самого континентального нарратива, который критикует Нина Бейм. В шестой главе, где сюжет набирает обороты, Геку «не хотелось больше жить у вдовы», чтобы его «опять притесняли да воспитывали», и он планирует «убежать из дому» — не плыть вниз по реке, а «бродяжничать по всей стране; пропитание добывать охотой и рыбной ловлей; [и уйти] так далеко, что ни старик, ни вдова [его] больше ни за что не найдут». К тому моменту, когда Гек произносит знаменитую финальную фразу, он наконец готов отправиться в то путешествие, о котором говорил еще в начале романа: «Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал». Может показаться, что такая книга, которая начинается и заканчивается мечтой о континентальном фронтире, будет идеальным кандидатом на титул великого американского романа в эпоху мифосимволизма в американистике, когда Генри Нэш Смит прослеживал развитие американского мифа «на просторах пустынного континента», Лео Маркс описывал машину, установленную посреди подобного саду «нового континента», а Алан Трахтенберг говорил о Бруклинском мосте как о триумфе «цивилизации, которая начала свой путь по девственному континенту». И действительно, в 1965 году К. Мертон Бэбкок в своей книге «The American Frontier: A Social and Literary Record» («Американский фронтир: социально-литературные свидетельства») поставил «Гекльберри Финна» в один ряд с романами Джеймса Фенимора Купера о Кожаном Чулке и с так называемой литературой о фронтире. Он утверждал, что роман Твена принадлежит к числу «классических исследований американского фронтира», поскольку «Гек Финн постоянно рвется на индейскую территорию в отчаянной попытке сбежать от респектабельности и благопристойности».
«Приключения Гекльберри Финна» начинаются и заканчиваются в духе того самого континентального нарратива, который критикует Нина Бейм. В шестой главе, где сюжет набирает обороты, Геку «не хотелось больше жить у вдовы», чтобы его «опять притесняли да воспитывали», и он планирует «убежать из дому» — не плыть вниз по реке, а «бродяжничать по всей стране; пропитание добывать охотой и рыбной ловлей; [и уйти] так далеко, что ни старик, ни вдова [его] больше ни за что не найдут». К тому моменту, когда Гек произносит знаменитую финальную фразу, он наконец готов отправиться в то путешествие, о котором говорил еще в начале романа: «Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал». Может показаться, что такая книга, которая начинается и заканчивается мечтой о континентальном фронтире, будет идеальным кандидатом на титул великого американского романа в эпоху мифосимволизма в американистике, когда Генри Нэш Смит прослеживал развитие американского мифа «на просторах пустынного континента», Лео Маркс описывал машину, установленную посреди подобного саду «нового континента», а Алан Трахтенберг говорил о Бруклинском мосте как о триумфе «цивилизации, которая начала свой путь по девственному континенту». И действительно, в 1965 году К. Мертон Бэбкок в своей книге «The American Frontier: A Social and Literary Record» («Американский фронтир: социально-литературные свидетельства») поставил «Гекльберри Финна» в один ряд с романами Джеймса Фенимора Купера о Кожаном Чулке и с так называемой литературой о фронтире. Он утверждал, что роман Твена принадлежит к числу «классических исследований американского фронтира», поскольку «Гек Финн постоянно рвется на индейскую территорию в отчаянной попытке сбежать от респектабельности и благопристойности».
Но, несмотря на то что американисты столь активно ссылались на «Гекльберри Финна» во времена этой континенталистской лихорадки, сама книга странным образом не представляет собой образчик континентального нарратива. Скорее это попытка сбежать от континента к воде. Во время своего знаменитого путешествия вниз по Миссисипи Гек и Джим приближаются к тому месту, где река впадает в море, недалеко от Нового Орлеана — того города, о котором в 1961 году журналист Э. Дж. Либлинг писал, что он, «подобно Гаване и Порт-о-Принсу», существует «в орбите эллинистического мира. <...> Средиземное море, Карибское море и Мексиканский залив формируют однородное, хотя и беспокойное, морское пространство». Спускаясь по реке, Гек и Джим тоже наблюдают однородность и беспокойство; я бы предположил, что это путешествие на плоту, если можно так выразиться, еще ближе соотносится со Средиземным морем, чем Карибское море или Мексиканский залив — ведь основная география их путешествия (сама Миссисипи с ее длинной цепью островов и остановками на побережье) напоминает Эгейское море времен Одиссея, а сам речной пейзаж в точности подходит под буквальное значение слова mediterraneus как его понимали в эпоху классической латыни («расположенный в глубине материка, вдали от побережья»). Острова американского Средиземноморья выстраиваются один за другим, словно в «Одиссее»: тот, на котором Гек и Джим прятались в начале путешествия; остров Джексона; остров, где они обсуждали царя Соломона, после того как побывали на потерпевшем крушение пароходе; островок (или песчаная отмель), из-за которого им не удалось сесть на пароход и уплыть на север; остров, где прятался Джим, когда Гек оказался в семье Грэнджерфордов, враждующих с Шепердсонами; длинная цепочка отмелей, где они останавливаются на отдых и привязывают плот; остров, на котором Джима выдавали за «бешеного араба» («когда в себе, на людей не бросается»); и, наконец, Испанский остров, где Гек спрятал плот, когда решил, «что нельзя врать, когда молишься», и где Джим помогал доктору перевязать рану Тома.
В контексте этого речного архипелага, по которому перемещается сюжет «Гекльберри Финна», особый интерес представляет глава 15, лучше всего соответствующая моей задаче — отыскать эвристический взгляд на архипелаговое пространство внутри традиционной американистики. В этой главе речь идет именно об островах и о том, как следует их интерпретировать. Я не хочу сказать, что Твен спрятал в своем тексте «пасхальное яйцо», которое удалось обнаружить только сейчас, спустя 130 лет после выхода романа в свет. Скорее я имею в виду, что глава 15 «Гекльберри Финна» может многое сделать более понятным для двух групп современных американистов: сторонников архипелагового подхода, обдумывающих связи с более обширной областью мысли, которая как будто определяет себя через противостояние с континентом, и тех, чья предшествующая работа была выстроена вокруг континентальных пространств. Возможно, американисты второго типа, испытав интерес к структуре чувства, достигшего точки перенасыщения, захотят узнать больше о вероятных общностях между пограничными водами и традиционным для нашей области континентальным пространством. Отсюда возникает переплетение континентальной и архипелаговой мысли, которое рассматривается далее в настоящей главе: два течения, которые несут свои воды с конца XIX века в начало XXI века.
Глава 15 начинается с того, что Гек и Джим сплавляются по реке в густом тумане и теряют друг друга из виду. Гек плывет на челноке, а Джим — на плоту. Они пытаются кричать друг другу через туман, но Геку никак не удается понять, откуда кричит Джим, потому что голос «все меняет место». Сначала ему кажется, что крики несутся спереди, потом — что сзади. Наконец, после долгого перекрикивания, Гек налетает на берег, как если бы Джим уже не плыл по реке, а переместился на твердую землю. И здесь он понимает, в чем дело, — понимает, почему ему не удавалось отследить Джима по голосу и почему он только что оказался на берегу.
Этот крутой берег был остров, и Джим теперь был по другую его сторону. Это вам не отмель, которую можно обогнуть за десять минут. На острове рос настоящий большой лес, как и полагается на таком острове; он был, может, в пять-шесть миль длиной и больше чем в полмили шириной.
Гек спускается вниз по реке, лавируя между множеством крошечных островков, пока большой остров, который отделяет его от Джима, не остается позади. Наконец он находит Джима, спящего на плоту, и в шутку убеждает его, что весь этот эпизод ему просто приснился. Джим уверен, что это был самый удивительный сон в его жизни; он начинает истолковывать его и находит особый смысл в каждом течении и островке, которые ранее упоминались в этой главе. Но Гек наконец показывает ему на сор и листья — «дрянь», скопившуюся на плоту из-за разделившего их течения. Он спрашивает Джима, как истолковать эту «дрянь». Глубоко уязвленный этим розыгрышем, Джим отвечает: «Это все мусор, дрянь; и дрянь те люди, которые своим друзьям сыплют грязь на голову и поднимают их на смех».
Литературоведы часто отмечают, что следующая сцена, когда Гек решает просить прощения, занимает центральное место в контексте основной темы — признания того, что Джим такой же человек, как сам Гек. Но я бы хотел рассмотреть другой вариант интерпретации этого эпизода. А именно меня интересует его возможная связь с постконтиненталистской американистикой, ищущей точки соприкосновения между континентальным и архипелаговым пространством. Когда Гек плывет на голос Джима и налетает на берег острова, он решает, что очутился на берегу реки — то есть на континенте. Это предположение совпадает с общей континентальностью его ожиданий, которые от начала и до конца книги построены на решении сбежать на континентальную индейскую территорию. Мне кажется весьма характерной эта путаница между континентом и островом; полагаю, некоторые американисты совершают ту же ошибку, что и Гек: наталкиваясь на остров, они принимают его за континент. Поэтому в стольких исследовательских работах мы видим, что некоторые аспекты, кажущиеся абсолютно континентальными, являются результатом смешения острова и континента, объясняемого нежеланием признавать общие точки этих двух феноменов. Между тем мы должны выявить эти точки, чтобы понять, как американисты архипелаговой школы обнаруживают некоторую архипелаговую традицию внутри того, что было принято считать чистым континентализмом, — и напротив, как сторонники континентализма обнаруживают некую когерентность между якобы континентальной традицией и архипелаговыми пограничными водами.
Мы обнаруживаем смешение острова и континента в некоторых основополагающих работах того течения американистики, которое многие признают основным. Рассмотрим знаменитую речь Фредерика Джексона Тернера «Значение фронтира в американской истории», которую он произнес в 1893 году. Он говорит о «переходе через континент», где «продвижение американских поселений на запад» служит объяснением «развития Америки». Возможно, никто не сделал больше для формирования мифа о континентальной Америке. И все же давайте вспомним заключительные слова этой речи, где Тернер (подобно Геку) одновременно путает острова с континентом и признает существование архипелагов: «Тем, чем для древних греков было Средиземное море, рвавшее узы обычаев, предлагавшее новый опыт, вызывавшее к жизни новые институты и виды деятельности, тем же — и еще больше — был вечно отступающий фронтир для Соединенных Штатов...». Тернер ясно сопоставляет одно с другим: в континентальном фронтире он видит американское Средиземноморье, Средиземноморье Соединенных Штатов Америки.
В контексте континентальной традиции идея американского Средиземноморья, высказанная Тернером, не является беспочвенным полетом фантазии. Она основана на историческом и мифологизированном представлении об американском фронтире, которое мы видим, например, на первых страницах романа Фенимора Купера «Прерия» (1827):
Земля напоминала здесь океан, когда его беспокойные валы тяжело вздымаются после ярости еще не улегшейся бури: та же равномерно колеблемая поверхность и та же необозримая ширь. <...> Здесь и там вставало <...> высокое дерево, как одинокий корабль; и <...> появлялась в туманной дали зеленым овалом рощица <...> точно остров среди океана. <...> По мере того как проплывали бугор за бугром и остров за островом, крепла печальная уверенность, что придется пройти длинную и по виду нескончаемую полосу земель.
Итак, Тернер основывался на модели, представлявшей континентальный фронтир как океан, усыпанный островами. В 1914 году он еще раз вернулся к идее американского Средиземноморья в своей речи «Запад и американские идеалы», где утверждал: «По мере того как мы отходим от задачи первоначального грубого завоевания континента, перед нами возникает огромное богатство нетронутых ресурсов в царстве духа». Тернер вспоминает «корабли Колумба» и разворачивает метафору «корабля, устремляющегося к новым горизонтам». В завершение речи он утверждает, что стойкость духа, свойственная покорителям фронтира, находит свое символическое воплощение в странствиях Улисса (как они описаны в знаменитом стихотворении Альфреда Теннисона): «Вперед! Ударьте веслами с размаху / По звучным волнам. Ибо цель моя — / Плыть на закат, туда, где тонут звезды / В пучине Запада». В этом тексте прослеживается генеалогия континенталистского мифа о путешествии навстречу закату: он восходит еще к странствиям по Средиземному морю. На протяжении десятилетий американисты видели в Тернере одного из главных создателей континентального фронтира. Мы тоже разделяли эту точку зрения. Но, подобно Геку Финну, натолкнувшемуся на остров и принявшему его за побережье, мы видели в метафоре Тернера лишь континент, игнорируя сам миф, ориентированный на острова и море: миф об американском Средиземноморье, где разрушаются традиции. Эта метафора приобретает форму под воздействием мифа о путешествиях Одиссея в едином пространстве островов и морей.
Развивая эту якобы континентальную метафору, Генри Нэш Смит в своей монографии «Virgin Land: The American West as Symbol and Myth» (1950) пишет: «Доктрина, утверждающая, что Соединенные Штаты — это континентальное государство <...>, оказала формирующее воздействие на американский менталитет и заслуживает собственного исторического исследования». Он продолжает: «В настоящем исследовании мы прослеживаем влияние Запада, свободного континента за пределами фронтира, на сознание американцев и рассматриваем основные проявления этого влияния в литературе и общественной мысли вплоть до его воплощения у Тернера». Но как бы Смит ни рвался на индейскую территорию основных континентальных разделов своей книги (где речь шла, например, о «сухопутной экспансии» и «идее континентальной империи»), сначала он натыкается на остров. В первом же разделе он описывает идею американской «империи — владычицы морей», стремящейся контролировать «путь в Индию» через Тихий океан. Далее Смит рассказывает о том, как время от времени возникала идея пройти по изначальному маршруту Колумба, и ссылается на мыслителей XVII‒XIX веков. Мы читаем у Смита, что они мечтали «обнаружить Восточно-Индийское море», завладеть «редчайшими пряностями Филиппин, Селеб [имеется в виду индонезийский остров Сулавеси] и Мариан», стать наравне с «могучим <...> Амстердамом <...> над всей ост-индской торговлей». Они желали (как мы видим из цитаты Уолта Уитмена) приветствовать «цветущие полуострова и пряные острова», стать богоподобными людьми, «колонизирующими Тихий океан и архипелаги», в будущем, где «предстоит пересечь океаны, далекое сделать близким, спаять воедино земли». Как и Гек Финн, Смит начинает свой рассказ с заявления о том, что хочет сбежать на индейскую территорию континентализма, однако и он внезапно оказывается сначала в воде, а потом на острове. Но тем логичнее этот поворот, что в своей книге Смит развивает идею Тернера с его неожиданным тезисом о Средиземноморье.
В 1965 году, без малого пятнадцать лет спустя, в свет вышла знаменитая книга Лео Маркса «The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America» («Машина в саду: технологии и пасторальные идеалы в Америке»). Маркс использует смитовский образ континента-сада — и совершает ровно тот же поступок, что Смит и Гек Финн: устремляется на континент, а обнаруживает себя на острове. Первая глава его книги называется «Американская легенда Шекспира». Комментируя шекспировскую «Бурю», Маркс пишет: «до сих пор [Шекспир] позволяет нам думать, что [остров Просперо] находится где-то в Средиземном море у берегов Африки». Но далее он американизирует этот средиземноморский остров, превращая его в символ «дикого континента», и утверждает, что «остров, подобно Америке, может быть Эдемом или адской пустыней». Этим тема острова у Маркса не исчерпывается. Он разбирает «Гекльберри Финна» — книгу, которая, по его словам, начинается с «желания главного героя сбежать от давления цивилизации», когда Гек «убегает на остров Джексона». Далее Маркс повторяет тот же фокус, что и в первой главе: он смотрит на остров и изображает его как континент, используя метафоры, полные фронтирного континентализма. В его описании того, как Гек и Джим «проникают в самые потаенные глубины острова», этот остров превращается в микрокосм, созданный по образцу марксовского континентального сада. Итак, Гек и Джим проникают на этот мини-континент; далее в интерпретации Маркса само путешествие на плоту превращается в континентальную экспедицию. «Плот становится подвижным продолжением острова», — пишет Маркс. Подразумевается следующий силлогизм, критически важный для его континенталистской позиции: если плот есть воплощение острова, а остров есть воплощение континента, то путешествие на плоту соответствует фронтирному континентализму, который отстаивали американисты середины XX века. И здесь Маркс сам как будто превращается в Гека: они оба натыкаются на остров и (в силу своих континенталистских ожиданий) принимают его за материк. В конечном итоге такое прочтение — остров как континент, путешествие Гека и Джима по реке как континентальная экспедиция — создает мощную континентальную призму для романа, который так часто называют американской «Одиссеей». Так Маркс сублимирует архипелаговую структуру «Гекльберри Финна» в континентальный миф и, подобно Тернеру, видит в континенте американское Средиземноморье.
Можно было бы предположить, что эти континенталистские ожидания, свойственные американистике 1950-х годов, несколько поблекнут после 1964 года, особенно под воздействием того, что Эми Каплан когда-то описала как отказ от «идеи целостности и стремление различать «расу, гендер, класс, этническую принадлежность и сексуальную ориентацию» для создания «более комплексного, хоть и децентрализованного» «концепта взаимосвязанности». Описание Каплан, подразумевающее одновременно и разделение, и слияние, в какой-то степени перекликается со словами кубинского мыслителя Антонио Бенитеса-Рохо, который говорил о «характере архипелага, являющем собой прерывистое единство». И тем не менее многие молодые американисты предпочли не признавать архипелаг как союзную и альтернативную географическую форму — они приняли существующее отношение к континенту в качестве «общей платформы» (той, о которой как-то говорил Джордж Липсиц, когда рассуждал о взаимосвязи американистов своего поколения со старшими коллегами из поколения Маркса). Действительно, американисты молодого поколения — сторонники мультикультуризации и в конечном итоге транснационализации — продолжили, в силу мощной научной традиции и того, что я бы назвал скрытой инерцией евроамериканской метагеографии, воспринимать континент как центр тяжести для Америки и всего мира.
И хотя я мог бы привести множество примеров, ярчайшей иллюстрацией этого феномена служит книга Вай Чи Димок «Through Other Continents: American Literature across Deep Time» (2006), оказавшая большое воздействие на американистику нашего времени. Она послужила важным источником вдохновения для настоящего исследования в плане глубокой темпоральности, однако при этом автор следует той самой динамике «континент/ остров», о которой здесь идет речь. В начале книги Димок упоминает новейшие транснационалистские исследования и говорит, что ее работа также «отражает поворот к морю». Рассуждая об этом повороте, она представляет «американскую литературу» не как «дискретное единство <...>, а как скрещение открытых путей, которых становится все больше, и каждый привносит свою географию, язык и культуру». Она продолжает: «Для описания этого феномена я бы хотела предложить новый термин — „глубокое время“. Я понимаю под этим комплекс лонгитюдных структур, одновременно направленных в будущее и подводящих итог прошлому, где вводимая информация перемещается в обе стороны, создавая множество связей между континентами и тысячелетиями и тем самым соединяя их в плотно переплетенную ткань». Итак, в формулировке Димок пространственным аналогом глубокого времени тысячелетий становится глубокое пространство, предстающее в весьма конкретной географической форме — форме континента. По сравнению с транснационализированным континентализмом Димок моноконтинентализм Тернера, Смита и Маркса становится слишком тесным — слишком маленьким, слишком изоляционистским, слишком островным, как если бы пришло время заново перечитать шекспировскую главу Маркса. Моноконтинентализм старой школы действительно как будто оказался на острове. Континент, как его описывали многие транснациональные американисты, обладает «островной» природой: изолирующий остров в далеком море. С этой точки зрения легко представить тот самый остров-континент из шекспировской «Бури», населенный американистами старой школы (Смит, Маркс, Трахтенберг, прочие Калибаны и Ариэли), которые никак не пересекаются с большим миром. Но теперь в диалоге с другими континентами («африканским, азиатским и европейским», цитируя Димок) новые американисты (Просперо, Миранды и Фердинанды?), возможно, сумеют преодолеть ограниченность старого континентализма и увидеть в Америке континентальный континент (а не островной), занимающий достойное место рядом с другими континентами. Как пишет Димок, глубоким тысячелетним эпохам соответствуют глубокие континентальные эпосы.
Но на фоне этой пространственно-временной взаимосвязи огромных континентов и протяженных тысячелетий мы отмечаем, что словосочетание «глубокое время» возникает рядом с понятием истории longue durée, которое ввел Фернан Бродель. Димок объясняет значение этого термина, приводя слова Броделя — это «история, измеряемая веками <...>: история большой, а порой и очень большой протяженности, история longue durée». Разумеется, в качестве примера такой истории Бродель приводит мир Средиземноморья, как очевидно из его монументального двухтомника «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», впервые опубликованного в 1949 году. В английском переводе этой книги в первой главе говорится об истории «в slow motion». География, утверждает Бродель,
...помогает обнаружить медленнее всего меняющиеся структурные реалии и организовать обзор по самой бесконечно удаляющейся линии перспективы. География <...> отдает, таким образом, предпочтение почти неподвижной истории, при условии, разумеется, что та усваивает ее уроки, принимает ее классификацию и ее категории.
Но какую географическую классификацию и какие географические категории принимает сам Бродель? Он упоминает «гористые полуострова» Средиземноморья, «миниатюрные континенты», которые разделены «обширными, непростыми и раздробленными морскими просторами, ибо Средиземное море является не столько единым водоемом, сколько „комплексом морей“». По Броделю, моря и побережья являются «сердцем Средиземноморья», где «острова более многочисленны и, главное, их роль не столь второстепенна, как обычно полагают». Крупные острова и группы островов сосуществуют с тем фактом, что «трудно отыскать отрезок берега, который не рассыпал бы рядом с собой острова, островки и скалистые утесы». «Эти острова всевозможных форм и размеров, большие и маленькие, — поясняет Бродель, — отличаются соответствующей социальной средой».
Итак, на примере Димок и ее идеи глубокого времени мы еще раз видим, как американист, якобы придерживающийся континенталистской точки зрения, натыкается на остров (или, вернее сказать, на геотемпоральную модель Броделя, основанную на комплексе архипелаговых отношений), и далее этот остров превращается в континент (или, как в случае Димок, в видение континентальной планетарности). Подобно старому тернеровскому континентализму, этот континентализм удивительным образом является по сути своей средиземноморским: его средиземноморская природа отражается в том факте, что димоковское «скрещение открытых путей, которых становится все больше» напоминает отношения между островами и морскими портами у Броделя. И действительно, иногда в «Through Other Continents» появляется мотив островов. Автор говорит об «океанском <...> процессе дрейфования»: перемещаясь от островов у юго-восточного побережья к Кони-Айленду и «острову Черепахи», она приводит цитаты из стихотворений Дерека Уолкотта и Эдварда Камау Брейтуэйта и утверждает, что «американисты могут многое узнать из карибской поэтики». Это признание становится началом архипелагового подхода в труде Димок. И все же такой подход у нее подчинен мощной континентальной идее: исследование развивается «через континенты» в поиске «межконтинентальных путей». В целом Димок находится под влиянием старой традиции континентализма, что получает свое ярчайшее отражение в ее сугубо континенталистском представлении «глубокого времени», которое «создает множество связей между континентами и тысячелетиями». «Глубокое время» Димок — это континентализированная версия архипелаговой географии Броделя, где средиземноморская основа подвергается американизации. И потому в ее знаковой транснационалистской модели американское Средиземноморье распространяется на всю планету. Основное место здесь принадлежит материкам, но странным образом присутствуют и архипелаги, хотя они воспринимаются как часть континентальной модели.
Разумеется, подобная идея — что, допустим, Карибский архипелаг является частью американского континента — не противоречит стандартному подходу, представляющему архипелаги в качестве приложения к материку: в соответствии с европейской метагеографией, распространившейся на весь мир, остров Великобритания считается частью Европы, остров Мадагаскар — Африки, острова Индонезии — Азии, а Карибские острова — Америки. Однако у этой идеи есть свои практические последствия. Если остров или архипелаг не считается хотя бы приложением к континенту (что само по себе звучит довольно сомнительно), он зачастую исчезает как с психологических, так и с физических карт, определяющихся континентальным восприятием планеты. Как отмечают Мартин У. Льюис и Карен Э. Уиджен в своей книге «The Myth of Continents: A Critique of Metageography» («Миф континентов: критика метагеографии») (1997), «многие острова и архипелаги <...> остаются по большей части малоизвестными аномалиями». Поэт-чаморро Крейг Сантос Перес следующим образом комментирует эту идею аномальности: «На некоторых картах Гуама не существует; я указываю на пустое место в Тихом океане и говорю: „Вот откуда я родом“. На некоторых картах Гуам — это маленький безымянный остров; я говорю: „Я вот из этого безымянного места“». Основная причина той проблемы, с которой сталкивается Перес, связана как раз с континентализированным мировоззрением. По словам Льюиса и Уиджен, ярче всего оно воплощается в «семижды континентальной географии, как ее представляют в американской начальной школе», где основной приоритет отдается «европейцам и их заокеанским потомкам». Именно об этом говорил филиппинский правовед Джей Л. Батонгбакал в 1998 году, когда он участвовал в создании программы по изучению архипелагов и океанской политики в Филиппинском университете. Он заметил, что в архипелаговом пространстве существуют «вызовы, которых чаще всего предпочитали не замечать под грузом многолетних предубеждений, сформировавшихся благодаря изучению дисциплин, где доминировал подход стран континентального Запада». Возможно, Батонгбакал был слишком осторожен, чтобы прямо заявить, о каких именно западных континентальных странах идет речь, — однако, учитывая роль США по отношению к Филиппинам и ко всему миру, было бы справедливо предположить, что критикуемый Батонгбакалом западный континентализм обязан своим существованием и американистике США, какой она была с начала XX века до начала XXI.
И все же, как видно из общего американистского наследия, некоторые наиболее влиятельные континенталистские нарративы удивительным образом восходят к идее американского континента как нового средиземноморского архипелага. Так что мы вполне можем повторить, в чуть измененном виде, то знаменитое высказывание Бруно Латура о современности: мы, то есть американисты, никогда не были континенталистами [Latour 1993]. Однако эта способность наткнуться на остров и принять его за континент или поставить архипелаг в подчиненное отношение к континенту (превратить его в метафору, метонимию или аномалию) является одним из следствий континентального подхода. И потому основное течение американистской мысли (от Тернера до Смита и Димок) всегда было континенталистским — именно потому, что на фоне архипелаговых атрибутов и связей (с использованием всех средств — от мифологии до выбора для книг транснациональных заглавий) они определяли себя континенталистами.
Итак, в настоящей главе мы вторгаемся в самую суть американистского нарратива, которую воплощает в себе ошибка Гека (и американистов), принявшего остров за континент. Пересматривая наследие американизма с точки зрения географических форм, мы стремимся (опять же по примеру Глиссана) отстаивать архипелагический образ мысли — перекликающийся с мыслительным процессом у Гека, когда он понял ошибочность своей первой идеи и признал, что оказался на острове. Этот образ мысли уходит от системы «ядро — периферия» и ориентируется скорее на острова и воду, тем самым (как предполагает Глиссан) «вступая в противоречие с системной мыслью» и не ограничивая себя рамками «единой догмы», — вместо этого он «рвется ко всем горизонтам». На протяжении всей главы я использую метафору течений (основные течения американистики): это осмысленная и ироническая отсылка к заглавию трехтомной монографии Вернона Луиса Паррингтона «Main Currents in American Thought: An Interpretation of American Literature from the Beginnings to 1920» («Основные течения американской мысли: интерпретация американской литературы от возникновения до 1920 года»). Кажется, эта книга, занимающая важнейшее место в изучении литературы начала XX века, покоится на прочной континентальной основе. И все же аллюзия на Паррингтона, в сочетании с восприятием архипелага у Гека и Глиссана, заставляет нас признать, что американисты, двигавшиеся в основных течениях континентальной мысли, двигались именно что в течениях. Историческую и культурную жизнь США нельзя сводить к одномерному движению через континент с востока на запад, за которым последовала вторая волна, захлестнувшая прочие континенты; напротив, эта жизнь представляла собой множество течений — с изгибами, завихрениями, водоворотами и порогами — среди лабиринта островов.
Таким образом, в рамках архипелагического подхода мы утверждаем, что континенты слишком долго считались системными «кирпичиками» мировой истории — как это видно, например, в классических «Лекциях по истории философии» Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1837). Гегель описывает мировую историю сквозь призму четырех континентов: Европы, Азии, Америки («трансатлантический континент», по Гегелю) и Африки. Конечно, Африку он назвал «неисторическим континентом», однако внутри его континентально-исторической схемы ей, во всяком случае, нашлось достаточно места, чтобы Гегель хотя бы рассмотрел вопрос ее историчности. Между тем островам у Гегеля уготована совсем другая судьба: «Мировая история знает лишь те народы, которые сформировались в государства. Но нельзя представить, чтобы такое случилось на пустынном острове». По контрасту с континенталистской точкой зрения, отрицающей роль острова в мировой истории, архипелагическая концепция перекликается с постгегелианским подходом к роли географии в истории у Дюбуа: «Проблема XX века — это проблема разграничения по цвету кожи: соотношение более темнокожих и более светлокожих рас в Азии и Африке, в Америке и на островах моря». В этой трактовке Африка получает свою историчность, а вот европейский континент исчезает. Однако самое радикальное место у Дюбуа — это, возможно, упоминание «островов моря». Этой фразой он как бы противопоставляет гегелевским «пустынным островам» мир островов и архипелагов от Филиппин до Антил, от Мадагаскара до Тайваня и Гуама. Острова и архипелаги отвоевывают свое место в истории, и учение об архипелагах открывает возможность для участия в многогранных и непредсказуемых ниссологических исследованиях (то есть в изучении островов), где архипелаговые штаты Америки — и, в более широком контексте, архипелаговая Америка — воспринимаются сами по себе, а не как подобие или миниатюра континента.