«Я по многим книгам собирал сладость словесную и мудрость»
Из книги Игоря Данилевского «Интеллектуалы древней Руси. Зарождение соблазна русского мессианизма»
Где и при каких обстоятельствах Даниил Заточник мог познакомиться с книгами, которые он щедро цитирует в своем «Послании»? Откуда у него были средства на драгоценный пергамен, чтобы записать свои мысли? И наконец, существовал ли этот древнерусский интеллектуал XIII века на самом деле? Об этих и других важных вопросах рассуждает доктор исторических наук Игорь Данилевский.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Игорь Данилевский. Интеллектуалы древней Руси. Зарождение соблазна русского мессианизма. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
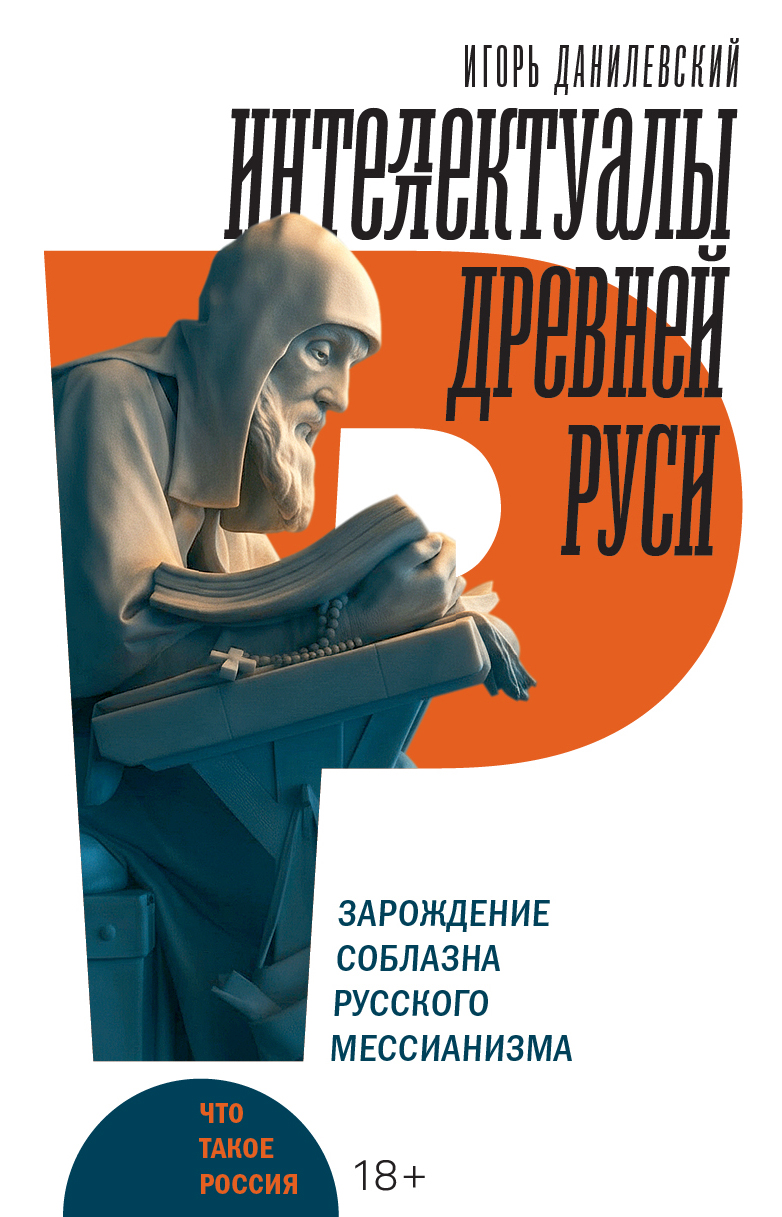
КТО ТАКОЙ ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК
Далеко не все признают, что автором «Послания» был реальный человек. Так, Е. И. Модестов прямо писал: «Даниил Заточник — лицо вымышленное»: он едва ли лицо историческое и вряд ли существовал на самом деле. «Возможно, что никакого Даниила Заточника и не бывало», — вторил ему Е. Е. Голубинский.
Однако достаточных оснований для сомнения, что некий Даниил, создавший исходный текст произведения, существовал на самом деле, нет. Это, впрочем, не исключает — напротив, предполагает, — что со временем (возможно, сразу после появления первого, не дошедшего до нас оригинального «Слова») он превратился в условную фигуру. Вполне реальный Даниил со временем трансформировался в литературного персонажа и в таком качестве «прожил» несколько веков. Этот собирательный образ оказался чрезвычайно близким всем продолжателям и переделывателям автора исходного текста, превратившись едва ли не в имя нарицательное.
Кем же был реальный — а впоследствии условный — Даниил?
Скудость сведений, сообщенных о себе автором «Послания», давала простор для самых разнообразных догадок о том, кто он такой и каков был его социальный статус.
Первые исследователи произведения Даниила полагали, что он княжеский раб. К этому иногда добавляли: «сын рабыни, попавший в изгнание» (Дмитрий Власьевич Айналов, 1862–1939), «его [князя] домочадец, а не дружинник», «сын рабыни Княжеской» (Ф. И. Буслаев), «действительным рабом (отпущенным) князя или называть себя этим именем вследствие происхождения от рабыни княжеской» (Е. И. Модестов). Основанием для этого послужила неоднократно повторенная в «Молении» фраза: «я раб твой, сын рабыни твоей». От тех, кто придерживался такого мнения, ускользало, что Даниил во всех таких случаях цитирует Библию: «О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей» (Пс 115: 7). Эти слова, как отметил И. У. Будовниц, «не следует понимать буквально»: с их помощью автор лишь «как бы отмежевывался от спесивых вельмож, стремившихся захватить важные должности только в силу своей знатности».
Одновременно автора «Послания» — со ссылкой опять-таки на прямые упоминания Даниила — считали дворянином, домочадцем князя (Ф. И. Буслаев, И. У. Будовниц) либо членом младшей княжеской дружины (Е. И. Модестов, П. П. Миндалев). Последняя точка зрения была раскритикована И. Н. Ждановым: дружинник сосредоточился бы на отношениях князя и дружины и не стал бы писать о «других житейских вопросах: о положении чернецов, о злых женах и т. д.» — Даниил же просто беден, он «бывший слуга». Е. Е. Голубинский называл его «мудрецом и сатириком», «гением-шутом» — «печальным и потешным». Н. К. Гудзий полагал, что Даниил был боярским холопом, а Д. С. Лихачев — княжеским «милостником», который «учился у скоморохов, но сам скоморохом… не был». М. Н. Тихомиров, опираясь на многочисленные перечисления в «Послании» «производственных процессов» («варить олово», «искушать огнем золото», «олово гинеть» — уменьшается в количестве при плавке, «железо нельзя варить» и т. п.), считал, что «первый» Даниил был ремесленником.
Совершенно фантастической выглядит догадка литературоведа Василия Афанасьевича Келтуялы (1867–1942), будто автором «Послания» был молодой дворянин,
сын зажиточных родителей, очень образованный и начитанный для своего времени Провинившись в чем-то пред своими родителями (вероятно, слишком отдавался чтению книг), Даниил лишился материальной поддержки с их стороны и очутился в бедственном положении. Некоторое время Даниил проводил на службе у бояр-капиталистов. Тяжесть труда и унизительное положение трудящегося у бояр вынудили Даниила покинуть службу. Ища выхода из своего положения, Даниил решился, наконец, обратиться к переяславльскому князю <…> с просьбой взять его себе на службу.
И лишь Борис Александрович Романов (1889–1957), посвятивший «Посланию» немало страниц в классической монографии «Люди и нравы древней Руси», пришел к выводу, что Даниил не имел устойчивого социального положения, называя таковое «заточничеством»:
Не только анализ содержания «Слова», но и родство его с отдельными элементами иных современных ему русских памятников привели меня к построению понятия (под условным названием) «заточничества» (ничего общего не имеющего с представлением о «заточении» куда бы то ни было).
Это положение человека, «оторвавшегося от своего общественного стандарта и перебирающего в мыслях возможный выход из создавшегося для него трудного положения».
Кстати, не вполне ясно, почему Даниил называет себя Заточником. Большинство исследователей полагают это свидетельством того, что Даниил находился в заточении или был сослан. Основанием для такого понимания прозвища автора «Послания» служит буквальное значение слова «заточити» — «изгнать, сослать; заключить под стражу». При этом часто ссылаются на известие Софийской первой летописи под 1379 годом: «Изнимаша же на той войне попа некотораго <…> и обретоша у него злых и лютых зелей мешок <…> и послаша его на заточение на Лаче озеро, идеже бе Данило заточеник», полагая, что в нем содержится прямое указание на то, что Даниил был действительно отправлен в заточение — и именно на озеро Лаче в семи километрах от города Каргополя. Однако такое толкование летописного сообщения не имеет достаточных оснований. С таким же успехом можно предположить, что его автор просто был знаком с тем вариантом «Послания», в котором встречается упоминание: «Кому Лаче озеро, а мне много плача исполнено».
Русские филологи Илья Александрович Шляпкин (1858–1918), П. П. Миндалев и Василий Михайлович Истрин (1865–1937), напротив, считали, что представление о ссылке или заточении Даниила — не что иное, как результат недоразумения. В своем «Послании» автор ничего не говорит о своем заточении или ссылке. Он жалуется только на бедность и неустроенность. Близкой точки зрения, как мы видели, придерживался Б. А. Романов.
Возможно, ключ к разгадке этого прозвища кроется в том, что Даниил чаще всего цитирует («пародирует», как считал Д. С. Лихачев) притчи Соломоновы. Соломона же в древней Руси называли Приточником (тем, кто сочиняет причти). Отсюда один шаг до Заточника. Да и сам Даниил то и дело прибегает к иносказаниям: говорит одно, а подразумевает другое. Такая догадка, однако, вовсе не исключает более традиционного понимания прозвища Даниила: скажем, как производного от «заточение» в значении «изгнание» (то есть Изгнанник).
Судя по всему, следует согласиться с Б. А. Романовым: Даниил по какой-то причине утратил свой прежний социальный статус. Он стал тем, кого на Руси называли изгоем, не имеющим крыши над головой и средств к существованию. Самой близкой современной нам аналогией является слово бомж — лицо без определенного места жительства.
ИСТОЧНИКИ «ПОСЛАНИЯ»
Все исследователи творчества Даниила подчеркивают его невероятно высокую начитанность. Он свободно оперирует множеством цитат из самых разных источников. Основные произведения, которые цитируются в «Послании», более или менее точно установлены.
Прежде всего, это, конечно, библейские книги: Псалтирь, Притчи Соломона, Экклезиаст, Песнь Песней, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Второзаконие, Книга пророка Исайи. Кроме того, Даниил и его продолжатели демонстрируют знакомство с древнерусскими Изборником 1076 года (из него заимствовано не менее двадцати цитат) и, возможно, Изборником 1073 года, «Пчелой», «Златой цепью», «Златоструем», «Измарагдом», «Паисиевским сборником», «Физиологом» и летописями. Они цитируют сочинения Иоанна Златоуста, «Поучение» Кирилла Философа, «Стословец» константинопольского патриарха Геннадия, изречения Менандра Мудрого и Варнавы Неподобного, «Сказание об Акире Премудром и сыне его Анадане», «Историю Александра», «Девгениево деяние», «Сказание о Вавилонском царстве» и «Наказание» Илариона Пелекитского. Правда, часть этих цитат могла быть заимствована из тех же изборников. Помимо письменных источников, Даниил и его последователи широко использовали «мирские притчи» — пословицы.
При этом сам Даниил скромно заявляет: «Я, княже, за море не ходил, у философов не учился, но был как пчела, припадая к разным цветам и собирая мед в соты. Так и я по многим книгам собирал сладость словесную и мудрость — как в мех воды морские».
На этом фоне особняком стоит мнение украинского литературоведа Василия Григорьевича Щурата (1871–1948), который полагал, что Даниил был не оригинален. Он якобы лишь творчески переработал греческие «Стихи грамматика Михаила Глики, которые он написал, когда находился в тюрьме по проискам некоего злопыхателя» (вторая половина XII века). Впрочем, такая догадка не нашла поддержки у подавляющего большинства исследователей. А. И. Лященко не без основания отмечал, что сопоставления В. Щурата «натянуты и бездоказательны». Действительно, «Стихи» Михаила Глики, хоть и содержат некоторые близкие «Посланию» мотивы, не совпадают с ним по форме и содержанию, расходятся с ним по структуре, общей идее и целому ряду существенных деталей. Да и время появления произведения Глики не позволяет допустить его влияния на Даниила.
В любом случае обширные познания Даниила и псевдо-Даниилов в области книжной культуры не могут не вызывать целого ряда вопросов.
Во-первых, остается загадкой, где, в каких библиотеках они могли познакомиться со всеми цитируемыми произведениями. Если с библейскими текстами — хотя бы хранившимися в памяти в виде церковных песнопений и чтений — особых проблем могло не возникать, то с остальными произведениями вопрос остается открытым. Главной загадкой являются извлечения из Изборника 1076 года. Конечно, можно допустить, что Даниил пользовался не тем единственным списком, который нам известен и который, скорее всего, хранился в княжеской библиотеке. Он вполне мог познакомиться с текстами, которые воспроизводятся в «Послании», по одному из так называемых Княжих изборников, которые на 95% совпадают с Изборником 1076 года. На сегодня известно тринадцать их списков XIV–XVII веков. Но как Даниил мог добраться до Изборника 1076 года или одного из Княжих изборников, непонятно. «Ведь нельзя представлять себе дело так, что сосланный на озеро Лаче дружинник Даниил был окружен библиотекой, пользуясь которой мог наводить нужные справки», — недоумевал в свое время А. И. Лященко.
Во-вторых, неясно, как можно было почти без ошибок цитировать такое количество произведений, не имея их перед собой. Конечно, в древней Руси, как и в средневековой Западной Европе, существовали приемы запоминания больших текстов — «искусство памяти». Достаточно вспомнить киево-печерского монаха Никиту Затворника, который наизусть воспроизводил Пятикнижие Моисеево, восемь больших пророков «по чину», да еще и иудейские апокрифы, — в чем превзошел всех прочих монахов, которые не могли с ним соревноваться в запоминании такого огромного объема текстов. Правда, как писал создатель Киево-Печерского патерика, все это было результатом дьявольского «прельщения»: «И сказал ему бес: „Ты не молись, а только читай книги, и таким путем будешь беседовать с Богом, и из книг станешь подавать полезное слово приходящим к тебе“». Хорошим же тоном для древнерусского книжника было заявление, что он «умом прост и некнижен». Но когда и, главное, как Даниил успел познакомиться со всеми текстами, воспроизводимыми им, очевидно, по памяти?
Наконец, в-третьих, как первым авторам-редакторам удалось записать свое «Слово»? До XIV века, когда на Руси появилась бумага, единственным материалом, который мог использоваться для этого, был чрезвычайно дорогой пергамен, изготавливавшийся из телячьих кож. А ведь Даниилу должно было потребоваться порядка 20–25 листов пергамена формата Изборника 1076 года (16 × 12 см). Откуда у человека, который жалуется на свое бедственное положение, могла появиться возможность достать пергамен, да еще и в немалом количестве?
Удивительно, но все эти вопросы до сих пор даже не были поставлены.