Впервые приехать в Нью-Йорк можно только раз
Фрагмент из книги Элизабет Гилберт «Город женщин»
Впервые приехать в Нью-Йорк можно только раз, Анджела, и это великое событие.
Ты, может, и не поймешь всей романтики, ведь ты в Нью-Йорке родилась. Для тебя наш прекрасный город существовал всегда. А может, ты любишь его гораздо больше, чем я, чувствуешь с ним особое родство, которого мне не понять. Одно знаю точно: тебе повезло, что ты выросла здесь. Но очень не повезло, что не случилось приехать сюда впервые. Тут я тебе сочувствую, ведь ты упустила самое невероятное впечатление в жизни.
Тем более если речь о Нью-Йорке в 1940 году.
Таким город не будет уже никогда. Я не хочу сказать, что до или после 1940-го Нью-Йорк был хуже или лучше. У каждого времени свой шарм. Но когда юная девушка приезжает в Нью-Йорк впервые, город словно рождается на ее глазах, отстраивается заново лишь для нее одной. И тот город, то место — второго такого Нью-Йорка не было и не будет. Он навек отпечатался в моей памяти, как засушенная под прессом орхидея. Мой идеальный Нью-Йорк — он всегда останется таким.
У тебя есть свой идеальный Нью-Йорк, у каждого он свой, — но тот город навечно принадлежит мне.
Дорога от Центрального вокзала до театра заняла совсем немного времени — мы пересекали город по прямой, — однако таксист вез нас через самое чрево Манхэттена, где новичку легче всего почувствовать пульс города. У меня разбежались глаза, я дрожала от волнения; хотелось рассмотреть все сразу. Но я вспомнила о хороших манерах и попыталась завести со своей сопровождающей светскую беседу. Оливия, впрочем, оказалась не из тех, кто испытывает потребность беспрерывно сотрясать воздух словами, и ее загадочные ответы лишь порождали новые вопросы, которые, как подсказывало мне чутье, она не соизволит обсуждать.
— Давно вы работаете на тетю? — спросила я.
— С тех пор, как Моисей в пеленках лежал.
С минуту я переваривала ответ.
— И чем вы занимаетесь в театре?
— Ловлю все, что падает, пока не разбилось.
Некоторое время мы ехали в тишине, и я пыталась уложить в голове слова Оливии. Потом решилась возобновить разговор:
— А какой спектакль сейчас идет?
— «Жизнь с матерью». Мюзикл.
— О, кажется, я про него слышала!
— Вряд ли. Ты слышала про «Жизнь с отцом». Бродвейская пьеса, была хитом в прошлом году. А у нас — «Жизнь с матерью». Мюзикл.
«А это законно?» — подумалось мне. Разве можно взять бродвейский хит, изменить одно слово в названии и поставить в другом театре? Оказалось, можно, если на дворе сороковые, а «другой» театр — это «Лили».
— А вдруг люди по ошибке купят билеты на ваш мюзикл, решив, что идут на «Жизнь с отцом»? — спросила я.
— Бывает, — хмыкнула Оливия. — Значит, им не повезло.
Тут я почувствовала себя маленькой надоедливой дурочкой и решила впредь молчать. Остаток пути я просто смотрела в окошко. Было невероятно увлекательно разглядывать город, проносящийся мимо. Куда ни повернись, открывались замечательные виды. Стоял чудесный летний вечер, было уже поздно, а нет ничего прекраснее позднего летнего вечера в центре Манхэттена. Только что прошел дождь. Над головой алело закатное небо. В окошке мелькали зеркальные небоскребы, неоновые вывески, блестящие мокрые улицы; по тротуарам бежали, шли, прогуливались и фланировали люди. Высоченные экраны на Таймс-сквер изливали на прохожих ослепительно сияющий поток рекламы и свежайших новостей. Вспыхивали огнями торговые галереи, платные дансинги, кафетерии, театры и кинозалы, роскошью не уступающие дворцам. А я, как зачарованная, не могла отвести от них глаз.
Не доезжая Девятой авеню, мы свернули на Сорок первую улицу. Тогда она не блистала красотой; впрочем, и сейчас немногим лучше. Но в 1940-м вся улица состояла из хитросплетения пожарных лестниц и запасных выходов домов, чьи парадные фасады смотрели на Сороковую и Сорок вторую улицы. А в центре невзрачного квартала сияло огнями единственное здание — «Лили», театр моей тетушки, чьи подсвеченные афиши зазывали на «Жизнь с матерью».
До сих пор так и вижу его. Настоящая махина, построенная, как я теперь знаю, в стиле ар-нуво, но тогда просто поразившая меня своей громадой. Фойе явно должно было создавать впечатление вопиющей роскоши. Здесь царил торжественный полумрак: дорогие деревянные панели на стенах, лепные потолки, кроваво-красная напольная плитка и массивные старинные светильники от «Тиффани». Интерьер украшала пожелтевшая от табачного дыма роспись с изображениями полуголых нимф, забавляющихся с сатирами, — и одной из забавниц в скором времени явно грозили известные неприятности, если она не поостережется. Были там и картины, где мускулистые герои с толстенными икрами боролись с морскими чудищами, но сценки выглядели скорее эротично, чем воинственно (складывалось впечатление, будто цель схватки — вовсе не победа в бою, если ты меня понимаешь). В других сюжетах стенной росписи фигурировали дриады, которые грудью вперед высвобождались из древесных пут, пока в ручейке по соседству плескались наяды, с энтузиазмом поливая водой голые торсы друг дружки. Резные колонны увивали мраморные виноградные гроздья и глициния — и, разумеется, лилии. Короче, обстановка была откровенно бордельная. И она сразу меня покорила.
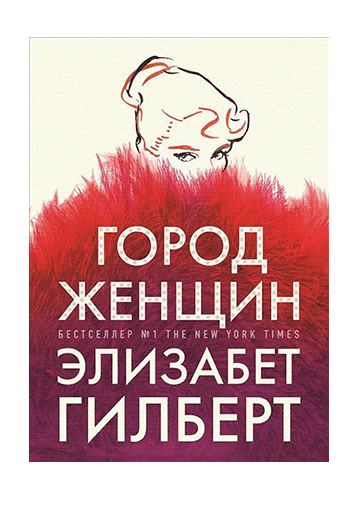 — Пойдем прямо на спектакль. — Моя провожатая взглянула на часы. — Слава богу, он вот-вот кончится.
— Пойдем прямо на спектакль. — Моя провожатая взглянула на часы. — Слава богу, он вот-вот кончится.
Она распахнула массивные двери, ведущие в зрительный зал. К моему огорчению, Оливия Томпсон воспринимала свое рабочее место с такой брезгливостью, будто ей противно здесь до чего-либо дотрагиваться, но я... я была совершенно очарована. Внутри театр поистине ошеломлял — громадный и сверкающий, как старинная шкатулка с драгоценностями, внутрь которой я ненароком попала. Меня восхищало решительно все: слегка покосившиеся подмостки, ряды не слишком удобных кресел, тяжелый пурпурный занавес, тесная оркестровая яма, потолок с позолотой и массивная поблескивающая люстра, при взгляде на которую первым делом возникал вопрос: «А если она рухнет?..»
Здесь все было грандиозным, и все нуждалось в обновлении. Зал напомнил мне бабушку Моррис — не только из-за ее любви к роскошным старым театрам, но и потому, что сама она выглядела точно так же: старая, но с гонором и разодетая в поеденный молью бархат.
Мы стояли в глубине зала, прислонившись к стене, хотя свободных мест было предостаточно. Если честно, зрителей оказалось немногим больше, чем актеров на сцене. Оливия тоже это заметила. Посчитав публику по головам, она записала число в блокнотике, который выудила из кармана, и тяжело вздохнула.
На сцене тем временем творилось нечто невероятное. Видимо, мы действительно попали на самый финал, поскольку чуть ли не все актеры высыпали на подмостки одновременно, и каждый вел свою партию. У задника смешанный кордебалет отплясывал канкан; танцоры улыбались во весь рот и задирали ноги выше головы. В центре миловидный юноша и бойкая девушка отбивали чечетку с таким пылом, будто у них горели подметки; при этом парочка во весь голос распевала, что «теперь все будет хорошо, мой друг, ведь это-это-это любовь!». По левому флангу выстроилась колонна артисток бурлеска. Их костюмы и жесты балансировали на грани дозволенного цензурой, но роль в сюжете оставалась неясной (если допустить, что у постановки вообще был сюжет). Похоже, их задача состояла в том, чтобы, вытянувшись в струнку, медленно поворачиваться вокруг своей оси, дабы зритель мог в полной мере и со всех ракурсов насладиться их статями прекрасных амазонок. С другого края сцены мужчина в костюме бродяги жонглировал кеглями.
Даже для финала действо продолжалось очень долго. Гремел оркестр, отплясывал кордебалет, счастливая запыхавшаяся парочка никак не могла поверить в наступление безбрежного счастья, артистки бурлеска в медленном развороте демонстрировали свои фигуры, жонглер потел и подбрасывал кегли — и вдруг все инструменты слились в едином мощном аккорде, прожекторы завертелись, руки актеров одновременно взметнулись вверх, и все кончилось!
Раздались аплодисменты.
Не шквал оваций, нет. Скорее легкий шелестящий ветерок. Оливия не аплодировала. Я из вежливости похлопала, хотя в глубине зала мои хлопки казались особенно одинокими. Впрочем, аплодисменты быстро стихли. Актерам пришлось покидать сцену в почти полной тишине, а это плохой знак. Публика мрачно проследовала мимо нас к выходу, словно горстка трудяг, бредущих домой после тяжелого рабочего дня (собственно, они ими и были).
— Думаете, им понравилось? — спросила я Оливию.
— Кому?
— Зрителям.
— Зрителям? — Оливия растерянно моргнула, словно раньше ей даже не приходило в голову, что у них есть свое мнение. Поразмыслив, она ответила:
— Уясни одну вещь, Вивиан: у наших зрителей не бывает ни особых надежд на входе в «Лили», ни особых восторгов на выходе.
Судя по тону, она вполне одобряла такой расклад или, по крайней мере, давно с ним смирилась.
— Пошли, — сказала она. — Твоя тетя за кулисами.