Война и государство: что первично?
Фрагмент книги Филипа Боббитта «Щит Ахилла»
Филип Боббитт. Щит Ахилла. Война, мир и ход истории (том первый). М.: Individuum, 2021. Перевод с английского М. Богданович, И. Мокина и А. Филиппенко. Содержание
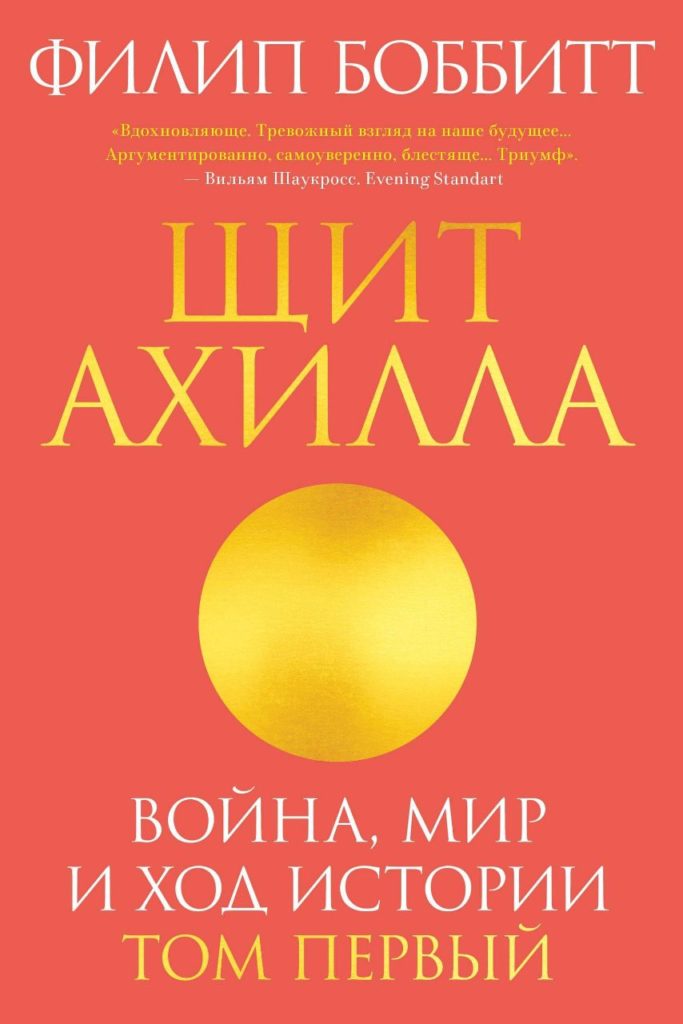 Идея «военной революции» в Европе впервые прозвучала у Майкла Робертса в его знаменитой вступительной лекции в университете Куинс, в Белфасте, в 1955 году. Робертс выделил четыре кардинальные перемены в военном деле за период с 1560 по 1660 год. Во-первых, произошла революция тактики: сначала лучники, а затем пехотинцы, вооруженные мушкетами, завершили период военного доминирования рыцарей-феодалов и выстроенных квадратом пикейщиков. Иными словами, решающим элементом на поле битвы стал не удар, а огонь. Во-вторых, резко увеличилась численность армий: в некоторых государствах в период между 1500-м и 1700 годом вооруженные силы увеличились в десять раз. В-третьих, изменилась стратегия: решительные действия на поле боя пришли на смену статичной и безрезультатной тактике осады предыдущего столетия. В-четвертых, война стала тяжелее бить по мирным людям: несопоставимо возросшие расходы на содержание таких больших армий, урон, наносимый войсками, добывающими провиант, и разрушительные последствия сражений делали жизнь гражданского населения все более суровой — похожей на ту, что представлена у Бертольта Брехта в «Мамаше Кураж», где действие происходит в Тридцатилетнюю войну, а не на яркие строки поэмы Честертона о морской битве при Лепанто, произошедшей веком ранее.
Идея «военной революции» в Европе впервые прозвучала у Майкла Робертса в его знаменитой вступительной лекции в университете Куинс, в Белфасте, в 1955 году. Робертс выделил четыре кардинальные перемены в военном деле за период с 1560 по 1660 год. Во-первых, произошла революция тактики: сначала лучники, а затем пехотинцы, вооруженные мушкетами, завершили период военного доминирования рыцарей-феодалов и выстроенных квадратом пикейщиков. Иными словами, решающим элементом на поле битвы стал не удар, а огонь. Во-вторых, резко увеличилась численность армий: в некоторых государствах в период между 1500-м и 1700 годом вооруженные силы увеличились в десять раз. В-третьих, изменилась стратегия: решительные действия на поле боя пришли на смену статичной и безрезультатной тактике осады предыдущего столетия. В-четвертых, война стала тяжелее бить по мирным людям: несопоставимо возросшие расходы на содержание таких больших армий, урон, наносимый войсками, добывающими провиант, и разрушительные последствия сражений делали жизнь гражданского населения все более суровой — похожей на ту, что представлена у Бертольта Брехта в «Мамаше Кураж», где действие происходит в Тридцатилетнюю войну, а не на яркие строки поэмы Честертона о морской битве при Лепанто, произошедшей веком ранее.
Идея Робертса вскоре получила статус общепринятого учения, и сэр Джордж Кларк с воодушевлением и безоговорочно ввел ее в свою работу «Война и общество в семнадцатом веке», опубликованную тремя годами позже. В последующие годы появились, однако, и оговорки, и уточнения. Но очевидно, что самым важным результатом этой работы стал тезис о том, что потребность в денежных средствах и инфраструктуре для финансирования и управления огромными армиями и новыми технологиями привела к революции в государственном деле, в результате которой в XVII веке появилось современное государство. Сам Робертс привлек внимание к вопросам государственного строительства, национального самосознания, централизации и формирования бюрократической системы, и этот подход подхватили и другие исследователи. Так, Джефри Паркер, выдающийся ученик Робертса, обнаружил поразительное сходство этой модели с процессами, которые привели к становлению древнекитайской империи Цинь. В конце концов он пришел к выводу, что европейские армии настолько разрослись и так сильно изменили свою тактику и стратегию, а война стала настолько явно влиять на европейское общество, что в структуре и философии государственного управления совершились столь же кардинальные перемены.
Для управления небывалыми по численности армиями XVII века (Густав Адольф имел под ружьем 175 тысяч человек) государства более не могли положиться на традиционные способы набора войск. Робертс предположил, что государства решали этот вопрос посредством конститутивной централизации, прежде всего контролируя набор в армию, ее оснащение и снабжение (которые, в свою очередь, требовали более обширной и рациональной административной структуры); далее они формировали постоянные регулярные армии и, наконец, финансировали это огромное военное образование посредством сложной системы кредитов, что является характерной чертой современного государства. К 1660 году, как утверждали историки, военная революция возымела свой эффект: сложился современный способ ведения войн, а с ним и современное государство, ярким примером которого стал прогрессивный режим протестантской Швеции.
Тем не менее Паркер этот тезис раскритиковал. Он оспаривал утверждение, будто военное преимущество перешло к режимам, устроенным более прогрессивно, и с восхищением писал об испанцах, которые, как он заявил, первыми создали новые вооружения и первыми ввели тактически гибкие подразделения меньшей численности. Действительно, в самом начале 1570-х именно испанская армия была ближе всего к регулярной — со сложившейся развитой структурой финансирования, подготовкой, материально-техническим снабжением и командованием. В дальнейшем Паркер сосредоточил внимание на другом, нежели у Робертса, объяснении роста численности армий: Паркер считал, что к нему привели не более масштабные и решительные стратегии XVII столетия, а развитие фортификации в XVI. Дело не в том, что появилась артиллерия, способная рушить крепостные стены, — а в том, что сами крепости изменились и стали способны применять артиллерию для обороны. Эти перемены дали trace italienne (бастионная система укреплений), с низкими толстыми стенами и выступающими бастионами, чтобы можно было вести огонь по вражеским подкопам; такие крепости окружались разного рода препятствиями, которые, однако, сохраняли обзор для защитников, что позволяло артиллерии крепости обстреливать противника настильным огнем. Паркер утверждает, что, имея в виду такие новые укрепления, военачальники были вынуждены значительно увеличивать численность войск для осуществления все более сложных и длительных осадных операций, а при действиях в обороне — для обеспечения активной обороны. Таким образом, Паркер считает, что революция началась веком раньше.
В противовес ему, Джереми Блэк считает, что революция в действительности совершилась веком позже, чем предполагал Робертс. Разработка штыка с трубкой фактически позволила обходиться без пикейщиков, так как у мушкетера теперь в руках было свое подобие пики; в битвах стало участвовать заметно больше солдат; экипировка, в частности военная форма, стандартизировалась; наконец, стала значительно более обширной логистическая инфраструктура. Все это показалось Блэку более решительными преобразованиями, чем недолговечные реформы предшествующих периодов. Более того, Блэк вообще не рассматривал создание современного государства как результат военной революции: наоборот, он считал, что современное административно-бюрократическое государство, появившееся в начале XVIII века, само стало движущим фактором стратегических изменений.
Отрицая полностью тезис о военно-административной революции, Дэвид Пэррот критиковал гипотезу о том, что увеличение численности армии сопровождалось сопоставимыми по масштабам централизацией и расширением полномочий Государства. На самом деле, говорил он, подавляющее большинство вооруженных сил, задействованных в войнах в Европе в конце XVII века, набирало не государство: их комплектовала и снабжала обширная система частных предпринимателей. Поэтому он пришел к заключению, что между ростом постоянных вооруженных сил и развитием государства нет прямой зависимости. Основной причиной увеличения войск в Европе было создание частных военных компаний, которые покрывали расходы путем насильственных поборов с местного населения. Как отмечает Пэррот, в 1626 году великий военачальник XVII столетия Валленштейн заявил германскому императору, что ему легче прокормить армию из 50 000 человек, чем из 20 000, так как тогда хватит солдат и чтобы заполнить гарнизоны, и чтобы собирать дань с местных. Пэррот утверждал, что увеличение вооруженных сил и расходов на них означало не укрепление государства, а беспрецедентную готовность препоручать свои обязанности частным предпринимателям. А если где-то в XVII веке все же наблюдалось увеличение централизации государственной власти, Пэррот пренебрегал этими фактами, считая их реакцией на военные события предыдущего периода.
В следующих главах я прослежу развитие стратегии приблизительно с конца XV века и соотнесу его с изменениями в конститутивном устройстве европейских государств. Имея такую цель, нет необходимости искать ответ на многочисленные узкоспециальные вопросы о «военной революции». Были или не были армии под Страсбургом, Брейзахом или Турином заметно многочисленнее войск предыдущего столетия? Ходило ли в каждую битву Тридцатилетней войны столько солдат, сколько было у шведского короля номинально? Эти вопросы к поставленной задаче прямо не относятся. Нельзя отрицать только, что развитие стратегии все более ожесточало войну и увеличивало ее потребность в ресурсах с самого начала XVI столетия, даже если мы не знаем точно, как эту потребность удовлетворяли. В вопросе Пэррота нас должен интересовать один пункт: какова взаимосвязь между развитием военной стратегии и конститутивными нововведениями? И если такая связь существует, то тогда мы должны ответить на вопрос Блэка: что есть причина, а что — следствие? Меняется государство, и потому меняется стратегия, которую оно использует? Или же изменения в стратегической области сами заставляют государство изменять свой строй, чтобы адаптироваться к переменам? И если мы найдем ответы на эти вопросы, то уже затем, вероятно, сможем установить, в какой именно момент произошли эти фундаментальные перемены — о чем так и не договорились Робертс, Паркер и Блэк.
Однако такая схема не столь проста, как кажется на первый взгляд. Возьмем вопрос Пэррота. Кажется неоспоримым, что между стратегическими и конститутивными изменениями существует связь, и причину найти нетрудно. При такой географической близости различных обществ, как в Европе, стратегические инновации ставят сходные, одинаково серьезные задачи перед целым рядом государств, сильно отличающихся друг от друга во всем остальном. Возможности таких государств, как Испания и Франция, то есть их материальные ресурсы, культурные традиции и политическое руководство, могут предельно различаться, — но пушка, нацеленная на одну страну, может выстрелить и по другой. Новые разработки в тактике или технологиях быстро распространятся по военным учебным заведениям и арсеналам всех государств. В ответ на такие изменения каждое государство будет либо повторять то же самое, либо создавать новое. Но при этом разве не прав Пэррот, когда утверждает, что между государственным строительством и стратегией нет единообразной связи, так как история дает слишком много контрпримеров: когда государство сначала растет, а потом замыкается в своих границах, когда успешное военное нововведение не закрепляется конститутивно и, наконец, когда значительные конституционные изменения никак видимо не влияют на войну? Приведем лишь два примера. Посмотрите на действия польской армии: они заметно отличались от военных практик европейских государств, о которых говорят Робертс, Паркер и Блэк, и тем не менее имели успех в XVII веке против шведов. Но эти новшества не спровоцировали ни военных, ни каких-либо конститутивных изменений в остальной Европе. Сюда же можно добавить сходную с польской тактику венгров против турецкой армии в 1686 году. Или возьмем сокращение численности вооруженных сил в Европе после Ватерлоо. Из великих держав только Пруссия последовала примеру Наполеона и сохранила огромную регулярную армию; остальные были осторожнее и не стали размещать внутри стран столько солдат и столько оружия, которое можно было теоретически повернуть против государства.