Вершина Шукшина
Из книги Михаила Гундарина и Евгения Попова «Василий Макарович»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Михаил Гундарин, Евгений Попов. Василий Макарович. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024. Содержание
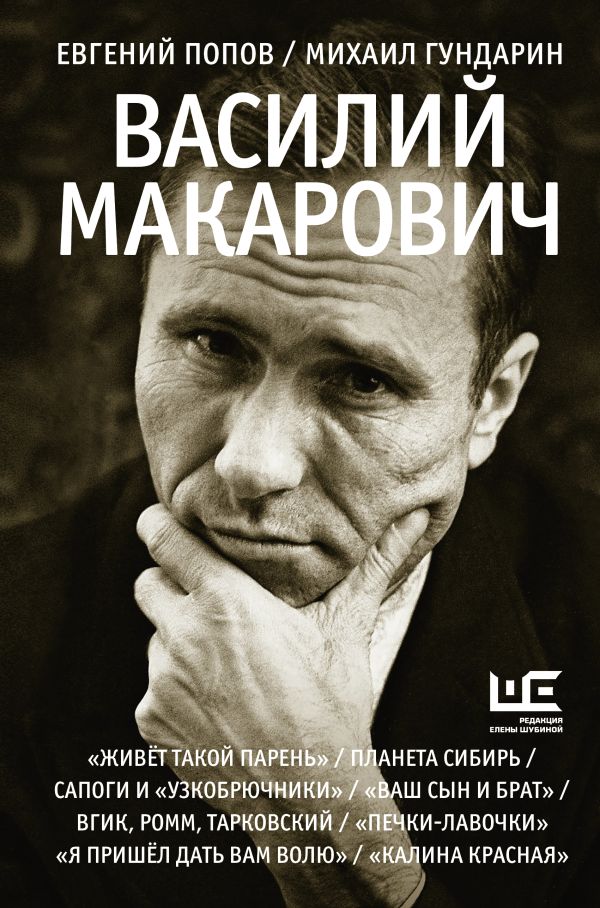 М. Г.: Что интересно, Шукшин во многих поздних вещах как будто спорил с самим собой, «ранним». И в том числе относительно своих героев. Да и «народа» вообще. Он говорил Валерию Фомину:
М. Г.: Что интересно, Шукшин во многих поздних вещах как будто спорил с самим собой, «ранним». И в том числе относительно своих героев. Да и «народа» вообще. Он говорил Валерию Фомину:
Сравниваю свои первые вещи с теперешними и сам замечаю: вместо лирики, теплоты, мягкого беззлобного юмора по отношению к герою накапливается нечто иное. Все чаще в строку просится ирония, подчас горькая и весьма ядовитая.
Еще одна важная именно для позднего Шукшина тема — история страны и ее влияние на современность. Александр Куляпин проводит остроумный анализ знаменитого рассказа «Миль пардон, мадам!», опубликованного в «Новом мире» в 1968 году — как исторических «псевдомемуаров» — в контексте мемуаров настоящих, которые так любил журнал Твардовского:
Парадокс в том, что лжемемуары могут говорить об исторической правде гораздо больше, чем самые достоверные свидетельства. Текст «Миль пардон, мадам!» включает широкий круг исторических реалий. В рассказе упомянуты: петровская эпоха, сталинские репрессии 1930-х годов, Великая Отечественная война и, разумеется, шестидесятые годы. Такая концентрация исторического материала неудивительна, так как центральная проблема рассказа раскрывается через характерное для Шукшина противопоставление истории официальной («Истории государства Российского/Советского») и «непечатной», фантастически искажающей реальные события. При всей нелепости байки Броньки Пупкова именно в ней сконцентрирована историческая правда, и финальная реплика рассказа («А стрелок он был правда редкий») призвана подчеркнуть эту сокровенную правду.
Бронька оправдывал свою ложь тем, что его россказни — «не печатная работа», а потому «засудить его за искажение истории не имеют права». Вроде и глупое высказывание, но в нем бездна смысла! Настоящая формула выживания. Абсолютный неформал и враль Бронька Пупков оказывается носителем важнейшей исторической информации, которая не про жизнь «большой страны», «великого государства», а про жизнь самого что ни на есть простого человека далеко от столиц. Эта жизнь и оказывается самой главной, и поэтому-то Пупкова автор даже не думает осуждать.
Или вот «Чужие» — очень странный рассказ! Первая его часть повествует о жизни великого князя Алексея Александровича и представляет собой якобы цитату из некоего исторического сочинения:
Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках. Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно.
Дальше идет суховатый даже в пересказе текст.
Так вот: этого анонимного историка и его книгу автор просто-напросто выдумал! И если вчитываться, то понимаешь, что текст не менее фантастичен, чем рассказ Броньки о покушении на Гитлера. Например, поданная абсолютно серьезно история о изобретенной «каким-то французом» торпеде, которая «подымает могучий водяной смерч и топит им суда». Пародийно-серьезный текст о представителе императорской фамилии сопоставлен с меньшим по объему текстом о якобы существовавшем на свете родственнике Василия Макаровича, человеке простом и ровно ничем не выдающемся. Простодушный читатель легко верит и в подлинность цитаты историка, и в реальность «дяди» автора-рассказчика. Совершенно постмодернистский жест Шукшина, демонстрирующий отсутствие какой бы то ни было «исторической объективности».
Как отмечает исследователь Дмитрий Марьин,
первая часть — вымышленная история о реальном лице, вторая часть — реалистическая история о лице вымышленном.
И обе они с исторической точки зрения являются чистейшим, как сказали бы сейчас, фейком! Но эта виртуозная авторская игра, в отличие от игр сонма прозаиков-постмодернистов, — для Шукшина не самоценна. Для него важно, что «чужими» являются не только и не столько великий князь и деревенский мужик. Чужие — это официоз.
Е. П.: В этом, думаю, секрет того, что Шукшин по-настоящему своим в «Новом мире» не стал. Твардовский и его единомышленники боролись против искажения истории в духе «ленинизма с человеческим лицом», так сказать, за «хорошую» советскую историю. А для героев Шукшина — она вся одинакова: что хорошая, что плохая. Она — официозная, далекая от реальной жизни...
И не только в истории дело, но и в историософии. В знаменитом рассказе «Забуксовал» совхозный механик Роман Звягин слушает, как его сын учит наизусть отрывок из «Мертвых душ» о птице-тройке, и вдруг приходит к неожиданному выводу:
А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?" Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. Вот так троечка!
— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?
— Селифан. — Селифан-то Селифан! То ж кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?
— Чичикова.
— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?
— Ну. И что?
— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...
Открывшуюся историософскую истину не в силах ни понять, ни разделить с Романом «представитель официоза» — школьный учитель сына. Да и кто может?
Тут надо заметить, что этот парадокс отмечали еще мыслители Серебряного века — и Розанов, и Мережковский. А до них и Достоевский — в «Братьях Карамазовых» прозвучало:
Ибо, если в его тройку впрячь только его же героев — Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, — то, кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь!
М. Г.: Интересно, вычитал ли этот пассаж Шукшин у Розанова или Мережковского — или, что называется, своим умом дошел? Известно, что литературу, в СССР запрещенную, он читал охотно. Но, мне кажется, Великий исторический парадокс он понял сам. На себе и своих современниках ощутил.
И раз уж речь зашла о птице-тройке и ее пассажире, я вспомню и свой любимый рассказ — «Срезал». Гениальная вещь.
К старухе Агафье Журавлевой приехал с семейством сын, уроженец деревни Новая, а ныне городской житель. Деревенские мужики выпускают на арену местного умника, «начитанного, ехидного» Глеба Капустина, и он «срезает» приехавшего городского «кандидата наук», «богатого, ученого». Ловит его на мелочах, умело манипулирует, провоцирует и побеждает. Хотя от этой «победы» всем как-то неловко, но нет сомнения, что, появись еще какой «ученый», мужики Капустина приведут снова. Чтобы городские не зазнавались. Знатных выходцев из деревни много, их всех и всегда побеждает в настырном споре о чем угодно Глеб Капустин.
В рабочих записях Шукшина находим заготовку — кажется, не оставляющую сомнения в направлении интерпретации:
Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села. К земляку пришли гости. А один пришел «поговорить». И такую ученую сволочную ахинею понес, так заковыристо стал говорить! Ученый растерян, земляки односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот.
Или вот еще — в беседе с корреспондентом итальянской коммунистической газеты «L’Unità» 17 мая 1974 года Шукшин говорит:
Тут, я думаю, разработка темы такой. Социальной демагогии. Ну что же, мужик, мужик. Вот к вопросу о том, все ли в деревне хорошо, на мой взгляд, или уже из рук вон плохо. Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, ничуть не прикрашенная; а прикрашенная если, то для одурачивания своих товарищей. А в общем — это злая месть за то, что он на пиршестве, так сказать, обойден чарой полной. Отсюда такая зависть и злость. Это вот сельский человек, это тоже комплекс. Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уж вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и все для того, чтобы просто напакостить. Оттого, что «я живу несколько хуже».
Вроде бы осуждает Шукшин своего Капустина — но, кажется мне, тут все сложнее...
Е. П.: Очень важна близкая к финалу фраза рассказа об отношении односельчан к «социальному демагогу»:
Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.
М. Г.: Но заканчивается рассказ словами «великодушного» Глеба:
Ничего... Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...
Е. П.: Но мне и кандидат этот не нравится. Да и автору он не нравится. Эти его смешочки, снисходительные ухмылочки... В какой-то момент Глебу начинаешь сочувствовать. Ну и потом, Шукшин очень хорошо понимал, что деревня живет хуже города. И Капустин в чем-то прав.
Короче, эти двое едут — в одной тройке, что грустно: выбора-то нет. «Оба хуже».
М. Г.: Еще добавьте электрический самовар — то есть ненастоящий, фальшивый, — который кандидат привез в подарок... Да, все же Капустин мне нравится больше, даром что я сам городской и, как тот кандидат, приезжаю в деревню разве что в гости.
Вся драма, а может и трагедия, в том, что тут нет героев. Деревенские ничем не лучше городских. «Человек из народа» Капустин — тот же гусь, что и кандидат с его цветастым халатом и деревянными ложками, привезенными в подарок. Потому что все превратилось, как говорил Глеб, в «трепалогию» — в том числе и его собственные речи.
А вам какой рассказ хочется отметить?
Е. П.: Трудный выбор! Мне много чего хочется отметить.
И «Верую», и «Алешу Бесконвойного», и великолепный «Срезал», но если выбирать один рассказ, самый любимый, — то я выбираю «Сураз».
Помните, как он начинается?
Спирьке Расторгуеву — тридцать шестой, а на вид — двадцать пять, не больше. Он поразительно красив: в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху — молодой бог!
Спиридон Расторгуев, простой деревенский парень, работающий шофером, полагает, что все неурядицы в его жизни объясняются происхождением. Он — незаконнорожденный. «Я — сураз», — именует он сам себя с некоторой даже издевательской гордостью.
Смотрим словарь Даля: «Сураз», с пометой «сиб.» — «небрачно рожденный», а также: «бедовый случай, удар, огорчение. Выражение „сураз за суразом“ — „несчастье“».
Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним. Ждала — может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.
Напрасно ждала. Спирьку вполне устраивает его modus vivendi — «матерщинничать да к одиноким бабам по ночам шастать». Он — уголовник. Отсидел. Но:
Глаза ясные, умные... Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит.
И тут же Василий Макарович преподносит нам страшную, шокирующую историю гибели Спирьки. Он, неотразимый местный Дон Жуан, пытается внаглую, почти демонстративно соблазнить приехавшую миловидную «молодую специалистку», учительницу, но неожиданно получает сокрушительной отпор от ее мужа, тренированного учителя физкультуры. Тот публично и зверски избивает его, именуя «котом пакостливым», что особенно, с точки зрения Спирьки, позорно.
Спирька собирается застрелить его из ружья за унижение, но тут возникает закавыка: сураз Спирька не «злой человек», он, как выясняется, «неожиданно добрый». Не случайно он время от времени, невзирая на свою репутацию, помогает упомянутым «одиноким бабам».
Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя, он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, что вообще никогда никому не желал зла.
[Спирька] ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет.
И в результате он стреляется сам.
В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит — и все.
Такая вот история. Я считаю «Сураз» вершиной творчества Василия Шукшина. Рассказ, который имел несколько промежуточных и, на мой взгляд, плохих названий («Непутевый», «Жарки», «Скандалевич»), первоначально был отвергнут многими редакциями — и окончательный, ныне канонический его вариант появился только в сборнике «Характеры» (лучшем, на мой взгляд, прижизненном сборнике Шукшина). Об этом рассказе потом много писали критики и литературоведы; поминали в связи с ним эмигранта Ивана Бунина, классика русского постмодерна Андрея Битова, структуралиста Ролана Барта, сказку «Мальчик-звезда» Оскара Уайльда, «венского шамана» Зигмунда Фрейда, Достоевского и даже «Выстрел» Пушкина...
Все это закономерно. Потому что в этом рассказе есть все необходимое, чтобы он навсегда остался в великой русской литературе, а тем самым — и в литературе мировой.